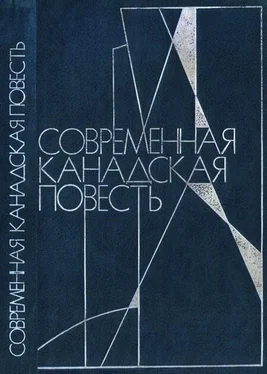Тереза смотрит на меня вопросительно. Уже половина седьмого, Мадлен еще не возвращалась, да и сам я пришел намного позднее обычного. Я объявляю, что Мадлен ужинать дома не будет. Разочарованно протянув: «А-а!», Тереза ставит что-то разогревать для меня. Свет горит только в кухне, и полумрак комнат наполнен присутствием Мадлен, словно она сидит и дуется где-нибудь в гостиной, а я даже боюсь вслух разговаривать. Тереза, усевшись напротив меня, грызет ногти. Она бросает быстрый взгляд на маленькую коробочку из ювелирной лавки, завернутую в бумагу с цветочками, но ни о чем не спрашивает. Тереза слишком тактична, чтобы задавать вопросы. Она просто сверлит меня взглядом до тех пор, пока, устав от ее назойливости, я не сообщаю ей о своей покупке. Ем я неловко, торопливо. Мне хочется попросить Терезу посидеть в другой комнате, но я не решаюсь. В конце концов я не выдерживаю.
— Вы можете идти домой. Вечером вы нам не нужны.
— А как же посуда?
Она вовсе не расположена уходить.
— Не беспокойтесь, мы сами справимся.
Тереза открывает рот, но так ничего и не произносит. Она не спеша прибирает в кухне, искоса поглядывая на меня. Внезапно ее осеняет.
— Кто же будет отвечать на звонки?
— Это я могу и сам.
Мой ответ звучит крайне сухо. Я откровенно указываю ей на дверь. Тереза слегка меняется в лице и, проглотив обиду, наконец уходит, одарив меня на прощание притворно сочувственным взглядом, который меня бесит.
На консультацию пришло четверо. Я поду прием сухо и деловито, мечтая побыстрее всех выпроводить. Сегодня меня не трогают чужие страдания. Я поднимаюсь в квартиру. Бульканье поды в батареях заставляет еще острее ощутить тишину; дом полон запахов: из кухни тянет чем-то съестным вперемешку с парами эфира, вечно витающими над лестницей. Дальше, в глубине комнат, царит аромат Мадлен: ее пудра, духи. Вот так входишь в пустой дом и по одним только запахам представляешь себе привычки и занятия его обитателей. Картина может получиться довольно точной.
Я зажигаю настольную лампу в гостиной и пытаюсь читать медицинский журнал, но не понимаю ни слова, как будто там написано по-китайски. Снег на улице все идет. Языки метели лижут оконные стекла словно пламя. Вдруг я вспоминаю, что оставил браслет в кухне. Я приношу его в гостиную и кладу на низенький столик, на самое видное место. Пробую представить себе реакцию Мадлен, когда она вернется. Зрелище получается грустное. Не будет ни изумления, ни возгласов радости. Она пройдет прямо в спальню, не глядя в мою сторону, и даже не полюбопытствует, что в коробочке. Я поплетусь за ней, а она не сделает ничего, чтобы разрядить атмосферу. Или равнодушно промолвит:
— Что это на тебя вдруг нашло?
Я заливаюсь краской при одной мысли, что окажусь перед Мадлен в смешном положении. Я убираю со стола коробочку с браслетом и кладу в карман. Подожду подходящего момента.
Прошло уже больше полутора часов с тех пор, как Мадлен вошла в кинотеатр. Она должна вернуться а минуты на минуту, если только… если только не продлит мою пытку, снова отправившись к Кури. Я тушу свет и жду. Не притвориться ли, что я сплю и ничего не помню? Тогда можно завязать разговор как ни в чем не бывало, будто спросонок. Я включаю радио, и джазовая мелодия, заглушая уличный шум, наполняет полумрак успокаивающими звуками, тягучими, словно тающая во рту карамель. За окнами свистит ветер, но от этого в доме только уютнее, как от потрескивания дров в печке.
Я без труда рисую себе отчужденное лицо жены. Мадлен представляется мне спящей; я вижу черты, безучастные к моей любви, тело, отгородившееся от меня на ночь: хозяйка покинула его и улетела куда-то прочь. А я все жду отклика от этого безжизненного тела, удивляюсь, что не узнаю его, и сержусь, что из него исчезла Мадлен и я ничего не сделал, чтобы остановить ее. Я был в ответе за ее душу, за ее счастье. Но она постоянно ускользала от меня между пальцев. В этом и состоит ужасная правда: Мадлен действительно ускользает от меня, и мне не за что уцепиться, чтобы ее удержать. Если бы она вдруг сегодня умерла, то я больше, чем от ее смерти, страдал бы оттого, что мало знал ее и мало любил. Впервые я ощущаю тяжкое бремя ответственности. Мысль о ее смерти сразу придаст всем моим словам и поступкам, пусть даже самым ничтожным, невероятную важность. Наверняка многие женщины уходят из жизни, унося с собой глубокую обиду на человека, которого любили. Смерть — самый эгоистичный из наших поступков. Мы не щадим живых. Какие чувства нашлись бы у нас друг для друга, если бы нам сказали, что завтра все будет кончено? Я предпочитаю об этом не думать и не пытаться представить себе взгляд Мадлен в ту минуту. Как легко было бы ей тогда вынести мне окончательный приговор! Я ее должник, и долг мой таков, что отступиться от него невозможно. Этот долг не предписан мне никаким законом, никакой религией. Исполнение его нельзя отсрочить. Он настолько же непреложен, как и необходимость жить. Уклоняться от него — такая же бессмыслица и нелепость, как пытаться лишить себя жизни. Я не получил Мадлен в собственность. Она лишь вручила мне на хранение частицу себя, а сама скрылась. Я бегу за ней вдогонку, чтобы вернуть то, что мне было доверено. Так мы и будем бежать, не настигая друг друга, если только она не остановится по собственной воле, и тогда уж покинет меня только в безупречной цельности — такой, какой я ее получил.
Читать дальше