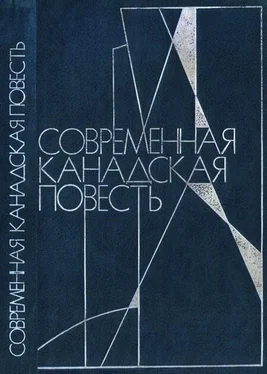Маклин вырисовывается в ватных сумерках, словно город-призрак в лунном свете. Терриконы кажутся устремленными к небу пирамидами из белого гранита, а зажатые между ними маленькие деревянные домишки похожи на глыбы мрамора, беспорядочно разбросанные там и тут. Вагонетки по-прежнему выгружают асбестовую пыль на верхушки терриконов, но ее мгновенно накрывает снег. Белый дым паровоза удлиняет конус гигантского гриба, едва различимого сквозь пелену снега.
Я поворачиваю за гараж и еду вверх по переулку, выходящему на улицу Грин со стороны ресторана Кури. Машину я останавливаю за углом. Я, конечно, веду себя не самым достойным образом, но мне все равно. Да и вряд ли я что-нибудь особенное узнаю. Наверняка ничего. Правда так легко не попадается в детские ловушки. И вообще, при чем тут ловушки! Я только войду на минутку, посмотрю… Что может быть более естественного и безобидного? Да и не кроется тут никакой особой правды, я уверен. Просто мне понадобилось купить сигарет, я взглянул на часы и подумал, что может быть… Если уж мне кажутся подозрительными столь невинные вещи, то скоро меня ждет настоящий ад.
Я захлопываю дверцу и застываю на месте в нескольких шагах от улицы Грин, не отваживаясь двинуться дальше. Две женщины идут мне навстречу, и это заставляет меня решиться. Я вхожу в ресторан деловитой походкой, устремив взор прямо на сирийца. Мне стоит бешеных усилий не смотреть по сторонам, и это наверняка заметно. Но, даже не глядя, я чувствую, что Джим здесь, стоит, облокотившись на стойку, возле окна. Кури медленно проходит следом за мной к кассе, и взгляд у него тоже слегка напряженный. Краем глаза я вижу, что Джим двинулся к нам. Он усаживается на табурет перед стойкой, поближе к кассе. У меня такое впечатление, будто весь ресторан разом смолк, и даже лампы дневного света перестали жужжать. Сейчас я наступлю на хлопушку, или на меня выльется специально прилаженная где-то кастрюля с водой. Мне необходимо как-то разрядить эту атмосферу, которую, скорее всего, только я один и чувствую.
— Ну как, Кури, дела идут?
Я сам слышу свою фальшивую интонацию. Вот-вот кто-нибудь подойдет, положит руку мне на плечо, скажет: «Не нервничай».
— Идут, спасибо.
Кури растягивает слова. Голос его звучит ненамного естественнее, чем мой.
Я кладу на стойку деньги за сигареты. Мы оба молчим.
— Быстрее, Кури. Я тороплюсь.
Он наклоняется под стойку. Я отворачиваюсь и смотрю на улицу. Брюхо Джима выпирает из распахнутого пальто, он сидит, расставив ноги, и молча взирает на меня своими тусклыми глазками, потягивая кока-колу. Время от времени он переводит взгляд в глубину зала, и едва уловимая улыбка скользит по его лицу.
Наконец Кури протягивает мне сигареты и незаметно, одним движением ресниц приглашает взглянуть в зал. Я так отчетливо представлял себе нечто в этом роде, что теперь не уверен, действительно ли он подал мне знак. Быть может, это я сам скосил глаза, а Кури просто посмотрел в ту же сторону? Но нет, он снова указывает мне на что-то глазами, на сей раз чуть более настойчиво. Я оборачиваюсь. Она там, одна, за дальним столиком. Заметила ли она меня? Не знаю. Она сидит без пальто, склонив голову набок и устремив взор в пустоту, будто прислушивается к чему-то. Только тут я вдруг слышу, что автомат играет ее любимую песню. На столике наполовину опорожненный стакан содовой, к которой она больше не притрагивается. Три тени одновременно приходят в движение. Кури распрямляется, словно освободившись от тяжкого бремени. Джим движением ноги поворачивает свой табурет к стойке. А я неторопливо направляюсь к Мадлен, неподвижно сидящей в той же позе. Кажется, будто музыка, как яичный белок, стекает по ее лицу, превращая его в застывшую маску. Да не в трансе же она, в конце концов! И, я надеюсь, не закричит от ужаса, если ее разбудить.
Я останавливаюсь перед Мадлен. Она смотрит мне в грудь и медленно поднимает глаза к моему лицу. Музыка кончилась.
— Дай мне мелочи.
Голос ее звучит очень спокойно, естественно. На ней платье с низким вырезом, глубоко открывающим грудь.
— Я зашел купить сигарет и…
— Дай мне мелочи.
— Не беспокойся, я расплачусь, когда будем уходить… Вдруг увидел тебя.
— Дай мне мелочи. Я хочу поставить пластинку еще раз.
Она снова усаживается в прежнюю позу, приготовившись слушать, и недовольно хмурится, когда я пытаюсь заговорить с ней. Я тоже прислушиваюсь. Это чудовищная пошлость. Примитивная мелодия, почти речитатив, и вдобавок голос у певца гнусавый. Какие-то слова о любви и о страдании, о черством хлебе и полных неги ночах.
Читать дальше