Да, в самом деле: я поворачиваю обратно, сказал Макс; и вот теперь здесь, в этой маленькой, никому или почти никому не ведомой деревушке — прислушиваясь к шуму прибоя за дюной и вдыхая влажный, морской, сквозь уже по-весеннему распахнутое окно влетающий в комнату ветер — я провожу линии, вычерчиваю узоры, соединяя далекое и близкое, уже бывшее и еще только имеющее быть.
Три точки в пространстве: я поворачиваю обратно, сказал Макс, и мы повернули обратно, дошли в темноте до станции, и рука невидимой кассирши протянула нам билеты; входите, входите же, наконец, сказал Сергей Сергеевич, устроитель и режиссер — и театр был найден, ветер стих, блуждания, сами собой, прекратились; и еще когда-то — Бог знает когда — когда-то и где-то — Бог знает где — в глубине и отдалении — была рассветная, еще спавшая дачная улица, по которой мы шли с ним навстречу друг другу, все сближаясь и сближаясь — и вот калитка, с ржавым скрипом пружины захлопнувшаяся за ним. И есть еще это теперь — шум прибоя за дюной и влажный, морской, влетающий в комнату ветер — теперь, в котором я надеваю пальто и выхожу на берег, чтобы в том особенном, одновременно прозрачном и пронзительном свете, какой бывает, наверное, только здесь, у этого моря, увидеть наконец — километрах в пяти отсюда — каждый в отдельности домик.
Сергей Сергеевич, столкнувшийся с Максом в дверях (им, Сергеем Сергеевичем, возглавляемого театра…), был, в самом деле, высок: высок, худощав; он говорил очень медленно, растягивая слова, и растягивая их, посматривал то и дело на своего собеседника, как будто желая проверить, на месте ли этот последний; убедившись же, что собеседник на месте, продолжал, откуда-то сверху, растягивая слова, говорить — причем руки складывал на груди и шевелил потихоньку пальцами.
Впоследствии, много позже, он ждал нас — и не дождался; разговаривая, может быть, с кем-нибудь (из уже приехавших…) — растягивая слова, отрываясь от разговора, — подходил он, должно быть, к окну — руки складывал на груди, шевелил пальцами — и всматривался, должно быть, в сгущавшиеся, морозные сумерки, в которых — но этого он не видел — мы шли к нему с Максом: и потом вдруг остановились, помедлили, повернули обратно. Он видел лишь край забора, сосну — сосну, которая, когда я сам смотрел на нее, казалась мне прекраснейшей из сосен, высокая, с нежным красноватым стволом и одной, очень длинной, выбивающейся из общей игры ветвей, веткой, тянущейся к самому дому, — и дальше (видел он…): поле, опушку леса, морозные сумерки. Нас, повернувших обратно, он видеть, конечно, не мог; мы же, проваливаясь, как сказано, в снег, не разбирая тропинки, лесом и краем леса, вышли, как сказано, к станции, с тускло горевшими фонарями.
И мне странно думать теперь, что эта тропинка, протоптанная кем-то в снегу, была той же, с выступавшими из земли корнями и мокрой травою тропинкой, по которой, впервые увидев его, Макса, еще безымянного, шел я некогда — к той же, к той же самой, удивительным образом, станции… Макс, постучав в окошечко кассы, положив билеты в карман, подошел к перилам, сгреб снег ладонями, скрутил снежок и с внезапной, мгновенной улыбкой, бросил — в ближайшее дерево.
— Странно, не правда ли?
— Да, правда, странно.
Странно думать, еще и еще раз, что это была та же самая станция, — та же касса и те же скамейки, — и те же дома вдалеке, — и те же деревья вокруг; и мы стояли вдвоем, на платформе, в снегу; и заметая рельсы, злой ветер рвал в клочья, над нами, зеленоватой зимней луной выхваченные из темноты облака; и он, Макс, я помню, то отходил к перилам, то возвращался к краю платформы, и смотрел — казалось мне: с нетерпением — в ту сторону, откуда, из-за дальнего леса, должен был появиться, упорно не появлялся — и вот, наконец, появился — пригородный, своим длинным и ярким лучом осветивший, на мгновение, станцию — в последний раз — скамейки, кассу, перила, нас самих, наверное, поезд.
На другое утро он пришел ко мне, как уже говорилось. Я не ждал его; я услышал звонок, открыл дверь и увидел его на пороге. Он снял пальто, стряхнул снег.
— Ты дашь мне кофе?
— Конечно.
И покуда он пил свой кофе — одну чашку и сразу за ней другую — я смотрел на него, я помню, и в снежном, зимнем, утреннем свете, наискось падавшем на него из окна, лицо его показалось мне вдруг изменившимся, — странно-отчетливым, — непривычно-определенным.
— Я отказываюсь; я не иду дальше.
— Как хочешь. Мне-то, впрочем, уже все равно.
Читать дальше
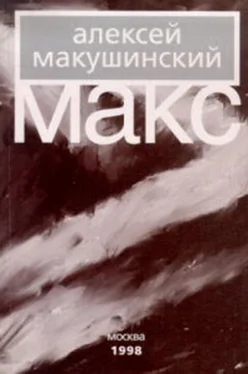




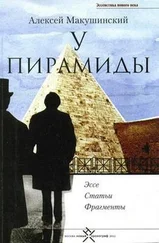


![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)
![Алекс Каменев - Макс Вольф - Рекрут. Наемник. Офицер. Барон [сборник litres]](/books/407854/aleks-kamenev-maks-volf-rekrut-naemnik-oficer-thumb.webp)


