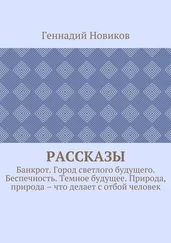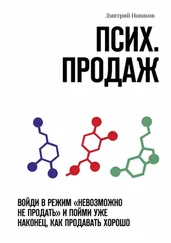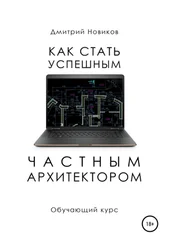— Подь сюды, чего ты прячешься?
А тот опять ногой из–за дерева — хабах, я еле блокировать сумел тяжелый ботинок, а то бы пах не собрать. Тут я совсем рассвирепел — чуть он только голову из–за дерева высунул, я ему левой в нее — буцк. Успел зацепить, чиркнул по скуле. Несильно получилось, но хоть раз попал. Заторопился, правда, и правой вслед — ащ наискось. Как перекрестил, получилось. Только так сильно, что самого на месте развернуло, и свалился я на колени. Яркий же, не будь медленным, выскочил из–за дерева и ко мне. И гляжу — ствол выхватил и ко лбу мне приставил. Ну, думаю, приехали, и холодный кружок так неприятно свербит кожу металлом. Но уж ярость никуда не делась. Поднимаюсь я с колен и говорю уродцу медленно и внятно:
— Если, — говорю, — пистолет свой смешной сейчас сам не выкинешь в кусты, я у тебя его отберу и по голове тебя забью нахрен его же рукояткой.
Смотрю, поразился он моей отваге и пистолет подальше кинул. Тут мы опять сцепились, но уже вяло, задышали тяжело, устали оба. На том и разошлись.
Я в палатку забрался, а там уже Конев лежит. Не спит, тревожится.
— Ты, — говорю, — про бесов все говорил, про кабиасов. Так вот встретились нам. Эти двое — точно нелюди. Только мелкие бесенята, немощные. Завтра увидишь.
А наутро проснулись от криков.
— Украли! — кричат. — Украли!
Я вылез на свет. Милиция уже тут, автоматчики с пистолетчиками. И наш знакомец как близким им докладывает:
— Был пистолет вчера, а сегодня нету. Вот право на ношение. Вот все прочие радости.
— Слышь, ты, — говорю ему. — Ты вчера пистолет свой сам в кусты закинул спьяну. Не помнишь?
Бросились они искать — лежит, родимый. Обложили они яркого матами, сели в моторку свою и умчались восвояси.
В этот день яркий как с ума сошел. Корежило его всего. Два раза еще кричал — то деньги у него украли на обратную дорогу. То рыбу пойманную. Ко мне же народ потянулся, с кем вчера выпивали, и другие прочие:
— Видели, как ты его учил вчера. И правильно. Он за три дня достал тут всех наглостью своей, хамло питерское. Правильно все.
— Да я не учил вроде, — а самому стыдно наутро.
— Да не, нормально все, — мужики говорят.
С ярким же точно что–то случилось. Точно бесы из него повылезали. Стал в истерике биться. Потом к людям пошел, к одному, другому, кем командовать до того пытался.
А все, не боясь уже, увидев, кто он есть, по–простому посылают его к матушке да батюшке. Первый, второй. Он к Васе, соседу нашему, а тот:
— Да надоел ты совсем. Не подходи больше.
Тут яркий к дереву, осине ближайшей, и давай вдруг рыдать неожиданно:
— Вы не знаете. Меня в детстве отец бросил. Я найду и убью его, убью!
И взрослый мужик, а плачет–заливается, как дите малое, брошенное. Аж жалко его стало. Вышли бесы из человека. Надолго ли?
— Ладно, — говорю, — хватит рыдать. Иди вон, горячего поешь.
Трудно порой, ой как трудно разобраться в человеке. Иной всем хорош — и пригож, и румян, и весел с притопом, а в душу заглянешь — есть что–то черненькое, какая–то червоточина. И такая она бывает извилистая, непростая — просто загляденье.
Другой же зол, как черт, несуразен, прихотлив, а прощаешь ему все. Потому что точно знаешь — свой человек, не продаст, не заступит за границу белого с черным.
Было у меня два друга — один с волосами, второй — без. Оба писали печальные и смешные книжки. Я в них прямо влюблен был за их талант и красоту.
С безволосым когда познакомился да почитал его первую книжку про войну — так и подумал: брат народился. Так он правильно все понимал, так писал искренно, с болью и бесстрашием. Такую женщину красивую любил, таких детишек славных нарожал! Да и сам хорош собой — взгляд пронзительный, голос зычный, подбородок небритый, мужественный. В солнечные дни над головой самодельный нимб стоит. Походка четкая была, как печатный текст. Не человек, а кумир молодежи и студентов. Он тогда еще весь в черном и кожаном ходил, даже и в носках. Но не это главное. Показалось мне вдруг, что не один я думаю о мучительных вещах, что нашелся наконец человек–глубокопатель, молодой, а правильный. Так он о жизни и смерти со знанием писал, так про детство рассказывал да про любовь плакал, как я почти не умел. Только потом что–то насторожило меня. Слишком уж все гладко и отважно получается. Будто по маслу пальцем — борозда заметная, а края оплывшие. Сначала я, после лет уже знакомства, все понять не мог — как же его зовут. То ли Мирон Прилавин, то ли Целестий Лабильный. Даже и сейчас не знаю. Как–то неуютно мне стало с человеком без имени дружить. А он пуще того — принялся революцией заниматься.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу