Когда мы пришли, Александр Яковлевич уже меня дожидался – но что делать, ему пришлось подождать еще некоторое время. «А все-таки что-то там есть», – говорил отец, имея в виду Высшую Силу, Провидение, хранящее нас – когда случался к тому повод. На сей раз Провидение своим орудием избрало мой кишечник. Презрев приличия, первым делом я влетел в «одно место». (Предвоенная детвора потешалась, посмотрев фильм «Музыкальная история»: «Куда, куда вы удалились?» – «Пошли в бортрест и провалились».) И я вижу: в унитазе рыбьим пузырем плавает надувшийся презерватив, который даже после низвержения хлябей не собирается исчезать. Взяв из ведерка длинную щепу, я «сдуваю» его. Со второй попытки удается от него избавиться, не то как бы я вышел из уборной – оставив его плавать? Становится не по себе при мысли, что первым там мог оказаться отнюдь не я. Отец прав, говоря, что «там что-то есть».
ПЛОТЬ
Александр Яковлевич дважды в неделю надувал меня альтовостью, отчего я раздувался, как известная лягушка. Аккомпанировала моя мать. Он делал замечание мне, а обращался к ней – как и Шаевич в свое время, мой первый учитель, с тою лишь разницей, что о моем непоступлении в консерваторию даже не было речи. Я сделался, по профессиональному выражению, «играющим человеком» [92]и им уже останусь, благо Исачок мне пальца не откусил, смирился с тем, что я буду, как он… Ну не «как», не «как», но одного цеха – глядишь, еще будем встречаться на проходной. Даже альтовые анекдоты, коих Исачок был неисчерпаемый кладезь, утратили свой уничижительный характер. Из «недоношенного скрипача» альтист превращается в выразителя оркестровой народной мудрости: «Поймал альтист золотую рыбку. “Хочу, чтоб сейчас все дирижеры, с которыми я играл, проплыли передо мной в гробах”. – “Но ты же играл и с великими дирижерами”. – “А великие пусть плывут в золотых гробах”».
Соперничество по линии Юлик – Анечка заглохло само собой: девочка. Будущая тетенька. С дяденьками тетеньки не состязаются, они состязаются с другими тетеньками за дяденьку. Объективно семья дяди Исаака и наша прекрасно дополняли друг друга: жили в разных стихиях. Те – «беснующиеся в огне саламандры», эти – амфибии. Те в огне не горят, эти в воде не тонут. Экстраверт и интроверт не задушат друг друга в объятьях, они промахнутся. Если «заграница – способ приведения людей к общему знаменателю» в отдельно взятой стране, то в масштабе человечества такой заграницей является плоть. Интроверт и экстраверт, банкир и уборщица, ты и я одинаково во плоти («одинаковы во плоти»).
Понимание, что поллюция не сокровенна, что «радость на всех одна», поначалу дается с трудом. Это трудно принять тому, кто, засыпая, видит рисунок обоев, а не спит посреди помещения, до стены же еще двадцать пять кроватей. Две красивые женщины рядом, одна в другой любуясь своим отражением, умножают очарование друг друга. Но толпа красавиц жалка и эросу неприятна: десятый класс на двадцать парт в женской школе, перетоплено, душно – вдыхая миазмы пота и менструации, учительница читает: «Коня седлаю и скачу».
В трамвае соскабливаешь ногтями ледяной гербарий с окна. «Всего-то месяц прошел или два, как нерастраченная острота детских вожделений нашла поддержку у тела, наконец созревшего, чтобы их сполна воплотить». Сквозь царапины на белом стекле видишь бессвязные фрагменты уличного шоу. Два ватника – лица в объектив не попадают, тем проще их дорисовать. Неужели и эти двое трубопрокладчиков испытывают ту же нежную сладость?
Кондукторша – «зима рисует на щеках свои узоры расписные». По-блокадному укутанная, в самодельных митенках, она отрывает от бобины на груди бумажный хвостик. А к себе в кошель кладет три копейки, во время последней реформы перекочевавшие из «старых денег» в «новые» – они теперь кочуют из автоматов с газированной водой в сумки трамвайных кондукторш и обратно. Из валенка выглядывает коленка в малиновом чулке (вместо рейтуз). «Не ради кого-то, а чтоб самой было приятно». Не припомню, чтоб с крашеными чулками велась идейная борьба, как с узкими брюками и почими атрибутами низкопоклонства. Это была пролетарская мода, с непривычки казавшаяся жутко похабной. Черные чулки назывались: «траур по потерянной невинности». Кто б это ни придумал, всяко не те, для кого они надевались, чтобы потом ради них же быть снятыми. Выдумал небось какой-нибудь дряхлеющий языколожец. «Я дефлорирую их пиццикато». «Их» – это, как мы помним, девчонок во дворе, которых Ардов разглядывал из окна и у которых только одно это и было на уме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
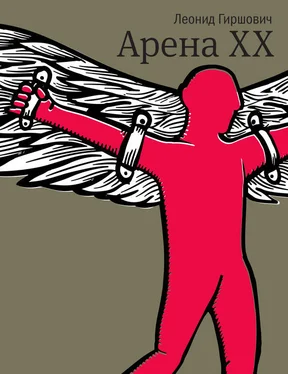






![Дмитрий Мазуров - Арена теней [AT]](/books/396109/dmitrij-mazurov-arena-tenej-at-thumb.webp)




