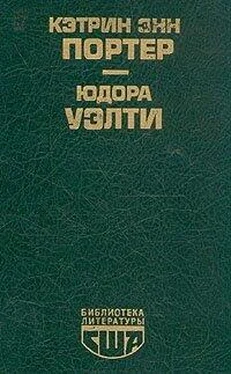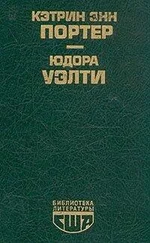Отто отставил кружку, побрел по залу, один из близнецов, проходя мимо, передал ему белый аккордеон. Отто переменился на глазах. Куда подевалась тупая безысходность — его лицо засияло простодушной радостью, он подхватил мелодию, которую наигрывал оркестр, и пошел между столиками, растягивая мехи аккордеона, его коротенькие пальцы летали по клавишам. Красивым рокочущим басом он завел:
Ich armes welsches Teufelein,
Ich kann nicht mehr marschieren… [16] Бесенок-иноземец, Едва тащу поклажу.
— Marschieren! — радостно подхватил зал — все как один. — Ich kann nicht mehr marschier’n [17] Поклажу… Едва тащу поклажу.
.
А Отто пел:
Ich hab’ verlor’n mein Pfeiflein,
Aus meinen Mantelsack [18] Я свой свисток посеял, В мешке дыра была.
.
— Sack! — гремел хор. — Aus meinen Mantelsack [19] Была… дыра была.
.
Ганс вскочил, высоким, звонким тенорком подтянул:
Ich hab, ich hab’ gefunden, was du verloren hast [20] А я твою пропажу нашел — и все дела (нем.).
.
— Hast, — рявкнул хор, теперь уже все посетители поднялись, их смеющиеся лица были простодушными, наивными — резвящимся барашкам впору. — Was du verloren hast.
Песня завершилась взрывом хохота, и оркестр неожиданно переключился на «Продавца орехов». Лютте, враз посуровев, словно ей предстояло выполнить свой долг, вышла из-за стола и в одиночку пустилась отплясывать нечто имеющее отдаленное сходство с румбой, но Чарльзу ее танец показался помесью блекботтома [21] Американский танец конца двадцатых годов.
и хучи-кучи [22] Танец в псевдовосточном духе, исполнявшийся преимущественно ярмарочными танцовщицами.
— он их навидался в ярмарочных балаганах, куда просачивался с компанией мальчишек в пору своего невинного техасского детства. Он отплясывал румбу под звуки «Продавца орехов» от самого своего родного городишки и через весь Атлантический океан, вплоть до Бремена, и тут его осенило: вот где я сумею показать класс! Он забрал маракасы у снулого оркестранта, довольно вяло ими постукивавшего, и стал отплясывать румбу на свой манер, потряхивая и пощелкивая маракасами.
В зале захлопали в такт, и Лютте, оборвав свой сольный номер, присоединилась к нему. Он тут же вернул маракасы оркестранту и крепко взял Лютте за талию, теплую, волнующуюся под тонким шелком. Она держалась деревянно, отворачивала от него лицо, улыбалась, старательно подражая киношным femmes fatales [23] Здесь: роковым женщинам, вамп (франц.).
, и довольно неуклюже, но весьма зазывно била его бедром. Он покрепче обхватил ее, притиснул поближе, но она словно одеревенела, двинула его бедром и на этот раз угодила ему в живот.
— Побоку технику, положись на мать-природу, — сказал Чарльз без тени улыбки.
— Что вы сказали? — спросила она по-английски, чего он никак не ожидал. — Не поняла.
— Ну что ж, — сказал Чарльз и чмокнул ее в щеку, — я тебе отвечу тоже по-английски.
Она не поцеловала его в ответ, но обмякла и перестала выпендриваться.
— Я такая же красивая, как та актриса, которая была здесь сегодня? — задумчиво спросила Лютте.
— По меньшей мере, — сказал Чарльз.
— Я пройду в Америке? — спросила она, повисая на нем.
— Кончай бить бедром, — сказал Чарльз. — Да, ты пройдешь на ура!
— Ну а как я танцую — на уровне? — спросила Лютте.
— Да, детка, на уровне. Ты там задашь шороху!
— Что это значит?
— Все хорошее, — сказал Чарльз. — Иди ко мне, ангел мой.
— У тебя есть знакомые в Голливуде? — спросила Лютте: ее ничто не могло отвлечь от цели.
— У меня нет, но у тебя могут быть, — сказал Чарльз. — Туда сейчас понаехала чуть не вся Германия и Европа, ты обязательно встретишь там друзей. Во всяком случае, тебе не грозит долго пребывать в одиночестве.
Лютте приложила рот, спелый персик, к его уху и, обдавая теплым дыханием, зашептала:
— Возьми меня с собой в Америку.
— Поехали! — сказал Чарльз, обхватил ее еще крепче и побежал к двери. Она упиралась.
— Да нет, серьезно, я правда хочу в Америку.
— И я хочу, — бесшабашно сказал Чарльз. — И не только я, а все хотят.
— Это неправда, — строго оборвала его Лютте и чуть не остановилась на полном ходу.
Тут их разбил Ганс. Чарльз вернулся на место с таким ощущением, словно его надули. Лютте как подменили. Она прильнула к Гансу, и они медленно заскользили по залу, она то и дело бережно, ласково целовала его в правую щеку мягкими нежными губами, глаза ее были полуприкрыты. Изуродованное лицо Ганса выражало раскормленную гордость, неколебимое самодовольство — точнее сказать, чванство. Чарльз вдруг почувствовал острый приступ ненависти к Гансу. Но он чуть не сразу прошел.
Читать дальше