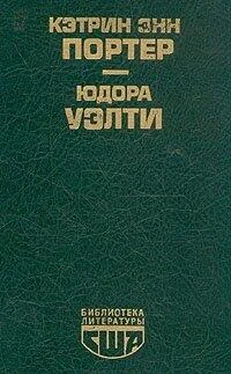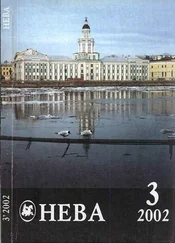Кэтрин Энн Портер: Рассказы
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Katherine Anne Porter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Мария Консепсьон шла, осторожно ступая по белой пыльной дороге и держась середины, где было меньше шипов агавы и коварно изогнутых кактусовых игл. Она бы с радостью передохнула в густой тени на обочине, да ведь сколько там колючек, сиди и вытаскивай из подошв, а времени-то нет. В сырых траншеях на раскопках древнего города ее ждут с обедом Хуан и его хозяин.
Через правое плечо у нее висела связка живых кур — птиц десять-двенадцать. Половина за спиной, остальные неловко корчились на груди. Куры все норовили выдернуть распухшие онемелые лапы, царапали ей шею, ворочали изумленными глазами, заглядывали ей вопросительно в лицо. Она их не видела, не думала о них. Ее левую руку оттягивала корзина с едой; после долгих утренних трудов хотелось есть.
Под чистым ярко-голубым ситцевым ребосо стройно вырисовывалась ее сильная спина. Первозданная ясность смягчала взгляд миндалевидных, широко расставленных, чуть раскосых черных глаз. В походке была врожденная свободная грация дикарки, оберегающей в своем чреве ребенка. Линии тела были плавные, развивающаяся жизнь не только не уродовала его, но придавала пропорциям высшую и, казалось, единственно естественную для женщины гармонию. В душе у Марии Консепсьон были мир, покой. Муж ее на работе, а она идет на базар продавать кур.
Домишко Марии Консепсьон стоял на склоне некрутого холма в тени перечных деревьев, двор отгораживала от дороги стена кактусов. Она спустилась в долину, по которой текла речушка, и стала переходить на ту сторону по ветхому каменному мостку неподалеку от хижины, где жила хозяйка пасеки Мария Роза со своей крестной матерью, знахаркой Лупе. Мария Консепсьон не верила в обугленные кости совы, в паленый заячий мех, в кошачьи внутренности, в мази и снадобья, которые старуха Лупе продавала страждущим и болящим. Она была добрая христианка и, если у нее болела голова или живот, пила настои трав или лекарства, которые покупала в городе, в аптеке возле рынка, куда ходила чуть не каждый день, хотя читать не умела и не понимала, что напечатано на этикетках пузырьков. Однако она часто покупала кувшинчик меду у Марии Розы — милой застенчивой девчушки, которой едва минуло пятнадцать.
И Марии Консепсьон, и ее мужу Хуану Виллегасу уже исполнилось по восемнадцать лет. В деревне она пользовалась уважением, ее считали набожной и деловой женщиной — любую вещь выторгует. Всем было известно, что, когда она идет покупать себе новое ребосо или рубашку Хуану, при себе у нее полный кошелек серебряных монет.
Год назад она приобрела свидетельство — драгоценный лист гербовой бумаги, позволяющий людям венчаться в церкви. Они с Хуаном пошли к алтарю в понедельник после Пасхи, но она дала деньги священнику, и три воскресенья подряд вся деревня в церкви слушала, как священник торжественно оглашает имена Хуана де Диоса Виллегаса и Марии Консепсьон Манрикес, которым предстояло сочетаться браком в самой церкви, а не на заднем дворе, как венчались все, — такая церемония обходилась дешевле, хотя связывала супругов ничуть не менее прочными узами. Однако Мария Консепсьон и всегда была горда, под стать богатой владелице гасиенды.
На мосту она остановилась и поболтала в воде ногами, обратив уставшие от солнца глаза на синие горы с наползающими клубами облаков. Ей вдруг захотелось съесть кусочек свежего сотового меда. Она даже почувствовала на языке его вкус, услышала кружащий голову запах пчел, их радостное мерное гудение.
— Если я сейчас не съем меду, у ребенка будет родимое пятно, — решила она и заглянула в щель в густой изгороди кактусов, стебли которых голо торчали вверх, точно обнаженные лезвия ножей, защищая небольшой участок вокруг дома. Было так тихо, что она засомневалась, дома ли Мария Роза и Лупе.
На жарком полуденном солнце дремал, источая ароматы трав, покосившийся, приземистый домишко, его стены были сложены из пучков сухого тростника и кукурузных стеблей, привязанных к вбитым в землю жердям, крыша крыта желтыми листьями агавы, расплющенными и перекрывающими друг друга, как дранка. Ульи, тоже из кукурузных стеблей и листьев агавы, стояли во дворе за домом, похожие на горки сухих очистков. Над каждой такой горкой вилось пыльно-золотое сияние пчел.
За хижиной раздался всплеск веселого легкого смеха, потом резко засмеялся мужчина. «Ха-ха-ха-ха!» — смеялись два голоса, низкий и высокий, точно пели песню.
Читать дальше