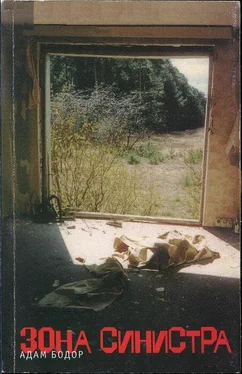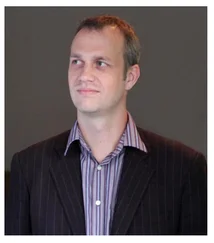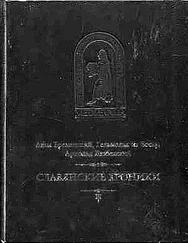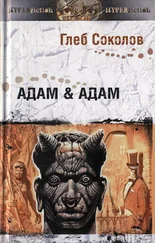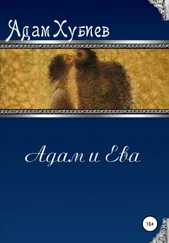За всю смену он не шевельнулся ни разу, так что его сохнущие портянки я считал уже почти что своими.
Вечером меня сменил полковник Титус Томойоага, а меня, когда я очутился на свежем воздухе, охватила какая-то беспричинная радость. То и дело прикладываясь к бутылке с денатуратом, я шагал к перевалу Баба-Ротунда. Начинался снегопад, снежинки таяли у меня на щеках, за тучами иногда мелькала мчащаяся луна.
Пока я добрался до перевала, домик дорожника со всех сторон засыпала снегом поземка. Я уже собирался осветить фонариком ступеньки, ведущие на крыльцо, как вдруг заметил, что стекло веранды затянуто испариной, которую изнутри озаряют порой отсветы играющего огня. Значит, Кока Мавродин меня не обманула. Я был уже не один.
В домике было темно; лишь светились три красных глаза-отверстия в дверце печи. И в порхающих по стенам бликах поблескивали медные кольца серег. На краю топчана, сложив на коленях руки, сидела Эльвира Спиридон. Перед ней стояли снятые лапти.
— Теперь я буду жить у вас, господин.
— Добро пожаловать.
— Мне сказали, вы, господин, говорите мало. Тогда и я лучше буду молчать.
— Надеюсь, у вас тоже не будет причины для жалоб.
На осиротевшем топчане Золтана Марморштейна сейчас лежали две взбитых, пухлых подушки и два свежевыстиранных лоскутных одеяла, от которых еще исходил аромат северного ветра, прилетевшего в тот день на перевал. На столе, в старом, закопченном котелке, стояла отдающая мышами картофельная похлебка; половину ее съел, должно быть, другой человек. А рядом с ней — излюбленное питье горных стрелков — полная бутылка ежевичной палинки. На пробке, как яркая звездочка, сиял золотисто-серебряный, усаженный шипами цветок колючника.
— Это мой муж вам шлет.
— Хороший человек ваш муж. Наверное, я его потом тоже узнаю получше. А сейчас, я вас прошу, не ревите.
— Муж мой — Северин Спиридон, вы его уже немного знаете.
— Хм… так, по имени, не припомню.
— Была с ним одна глупая история. Вы тогда помогли ему выбраться. Он жить не хотел, а вы, господин, душу в него вдохнули.
— Ага, что-то такое было, не стану отрекаться. И, если я ничего не путаю, у вас еще пестренькая собачка есть.
— Да, есть. Собачка тоже вас не забыла.
Я заметил, что онуча на щиколотке у нее колыхнулась. И тогда я встал на колени, чтобы собственноручно высвободить из онучи ее ногу. Ту самую, опутанную тонкими жилками, теплую, пахнущую сеном ногу, с которой я имел счастье быть, что называется, в шапочном знакомстве с того достопамятного случая, когда вынул впившуюся в нее колючку… И вот я снова держал эту ногу в своих ладонях.
— Вот, стало быть, какие дела, — бормотал я рассеянно. — Полковники, что там ни говори, свое слово держат. А я-то думал, Кока Мавродин-Махмудия просто смеется надо мной. Благослови ее тысячу раз Всевышний.
— Да, барышня полковница пожелала, чтобы я с этих пор жила у вас, господин. Но если вы мне позволите, я иногда буду ходить домой.
— Ходите, когда захочется. В конце концов, у вас есть к кому. А сейчас снова прошу вас, не ревите.
Откупорив бутылку, я разлил гостинец Северина Спиридона по двум кружкам. Под топчаном нашелся таз; наполнив водой, я поставил его на печку; потом попробовал суп. Таз пропускал воду; я смотрел на водяные шарики, что разбегались по раскаленной плите, потом, отпив палинки, махнул Эльвире Спиридон рукой: мол, чего ждать, давайте, пожалуйста, раздевайтесь.
Довольно давно уже не слыхал я таких звуков: шелестело снимаемое платье, шуршали прижатые друг к другу округлые руки и бархатистые колени, плескалась вода, стекая по ребрам; мне даже казалось, я слышу, как дышит сохнущая кожа. Над коленом у Эльвиры Спиридон я выбрал жилку, которая, то разветвляясь, то вновь сливаясь, бежала вверх, и, ведя по ней пальцем, отправился, сначала вроде бы нерешительно, потом все смелее и нетерпеливее, вдоль нее…
— Знаете, — тихо сказал я, сам удивляясь тому, как странно звучит мой голос, — это ведь я однажды нашел колючку у вас в ступне. Если вы еще помните, я ее собственными зубами вытащил оттуда.
— Не забыла я, господин.
— Сейчас я могу признаться, я вас про себя зову с тех пор не иначе как рябиной, или птицей, или рябиновой птицей. Каждый раз по-разному, сколько бы раз ни вспомнил.
— Не совсем я вас понимаю, господин, но кажется, вы за мной ухаживаете.
— И еще скажу: сейчас я вас буду всю целовать, и тут, и тут, и тут, по очереди. Это я для того говорю, чтобы вы не удивлялись и не пугались.
Читать дальше