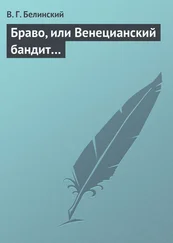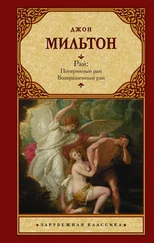Алёна Браво - Рай давно перенаселен
Здесь есть возможность читать онлайн «Алёна Браво - Рай давно перенаселен» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рай давно перенаселен
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рай давно перенаселен: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рай давно перенаселен»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рай давно перенаселен — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рай давно перенаселен», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Так кто же из нас некрофил?
Вероятно, я сказала что–то непристойное, потому что рты перестают жевать, смех скисает. За плывущими по воздуху жалкими гримасами проступают грязные стены с инструкциями по спасению утопающих. В прозрачных разбухших мешках колышется жирное месиво непереваренной пищи. Две разнополые особи, не замечающие того, что сквозь их черепные коробки просвечивает мозг, размером с грецкий орех, заняты типовой отработкой дыхания рот в рот. «На дорожку» мне суют коробку конфет — ассорти злобы, зависти и серости; эти черные сгустки отравили бы мой организм, вызвали бы в нем вспышку какой–нибудь болезни.
Спасибо, дорогие, кушайте сами!
Бабушка Вера до конца жизни сохранила какую–то юношескую застенчивость: терялась, когда на нее обращали внимание, избегала конфликтов, даже когда имела на то веское основание. Помню, лет в шестьдесят пять она сломала руку; эскулапы наложили гипс, и она, постеснявшись сказать про боль, мучилась целый месяц, а потом выяснилось, что гипс был наложен неправильно. После повторного заключения и освобождения руки она носила ее в поликлинику на массаж и рассказывала о медсестре с тихим удивлением: «Положишь рубль в карман — хорошо пожмякает, не положишь — только погладит». «Класть рубль» в карман работнику поликлиники ее научила, пожалев, соседка, — а то бабушка так и отходила бы положенное ей число сеансов без всякой пользы для себя. Впрочем, и на это у нее находились оправдания: «Наверное, им там совсем мало платят», — вздыхала она. Даже наглые обвешивания в магазине она сносила терпеливо, потому что испытывала неловкость — разумеется, не за себя, а за тертую тетку–продавщицу, которая вдруг будет выставлена воровкой перед всей очередью. Вера, мне кажется, вовсе не умела сердиться, требовать чего–то для себя, никогда не произносила оскорбительных и бранных слов; в этом можно видеть ее жизненную небитость — все взаимодействия с социумом, чреватые конфликтными ситуациями, разруливал дед, — в связи с чем к убийственным характеристикам, которыми моя мать награждала бабушку, прибавилась еще одна: «мокрая курица». Бабушка же, рассказывая мне о моей матери, сочувственно вспоминала, как перед свадьбой навестила ее на квартире, где будущая невестка снимала угол: «Она, знаешь ли, спала на сундуке в коридоре, небольшой такой сундук, ног не вытянуть, ни матраса, ни подушки…» Я потом, после загса, рассказала сватье, а та: «Ну и что такого? Подумаешь, барыня! Не сахарная, не растает!» Но чаще бабушка поджимала губы, смотрела прямо перед собой и произносила подчеркнуто твердым, как свежезаточенный карандаш, голосом, как бы отсекая дальнейшие рассуждения на эту тему: «Марию очень ценят на работе». И для нее эта характеристика искупала многое, если не все.
Бабушка наивно завидовала всем, кто по утрам вливался в мутный поток хмурых людей, растекавшийся по заводам и учреждениям. В минуты усталости (в последние годы они случались все чаще) она тихо жаловалась мне на то, что ее труд, труд заведенного механизма, не имеющего выходных и отпусков, никем за работу не считается. «Придут, одежки грязные скинут, а откуда они потом берутся чистые, знать не знают, — говорила она. — А вечером придут — и к телевизору: они устали, они работали! А то, что ты до ночи по дому крутишься и до света встаешь, так это не считается: ты же на работу не ходишь». Надо сказать, бабушка избаловала родичей, полностью освободив от всяких домашних нагрузок, в особенности по ращению малышей: дети, внуки, племянница и даже правнучка — моя дочь — всех она нянчила, кормила, пеленала, купала, на ночь забирала к себе, чтобы дать «молодежи» отдохнуть.
…С утра голова тяжелая, веки налиты болью. Плачет ребенок — сколько таких утренних плачей пришлось на ее жизнь? — ну здравствуй, моя радость, она торопится на кухню, варит кашу для маленького, остальным готовит омлет. Вот малыш уже сидит на высоком деревянном стульчике, подожди, моя радость, дедушка не может ждать, ему на работу, мама с папой не могут ждать, им на работу. Она кормит семью, моет посуду; преодолевая боль в пояснице, замачивает в ванне белье, моет полы. Не плачь, моя радость, а вот я тебе расскажу, как твоя баба полы в детстве мыла: доски белые, некрашеные, воды с речки принесешь — и давай шуровать, а к Троице, бывало, аиром посыплешь. Линолим этот, или как там его, помыть — разве это работа? Варит обед, посматривая на часы, кормит мужа. Тише, моя радость, дедушка уснул, он спит всегда ровно двадцать минут после обеда, видишь, шофер под окном ждет. Уложив и ребенка, она стирает и развешивает детские штанишки — снова целая гора! Болит сердце, закончились лекарства, но в аптеку некогда. Гладит белье тяжелым утюгом — и что это я сегодня вся мокрая, как мышь? Ну вот мы и проснулись, улыбнись–ка бабе, мое солнышко! Скоро мама придет, скоро дед придет, скоро папа придет, они устали, они работали, за столами сидели, по телефонам говорили, их надо покормить, за ними надо убрать, посуду перемыть, а там можно и нам спать ложиться. Вот тогда я тебе сказку и почитаю…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рай давно перенаселен»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рай давно перенаселен» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рай давно перенаселен» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.