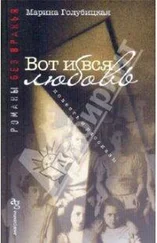Марина Голубицкая - Рассказы
Здесь есть возможность читать онлайн «Марина Голубицкая - Рассказы» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рассказы: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рассказы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рассказы — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рассказы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Чудо (июнь)
«Если ты есть, если только ты есть, сделай так, чтоб этого не было…»
— Иркин, поступай, как хочешь, я же не заставляю… Ну, что такой похоронный вид?!
«Похоронный»! Какой еще может быть вид? Она отложила две пеленки, начала утюжить ночную рубашку. От утюга шел жар, Лёня, уже опрысканный одеколоном, ходил кругами по комнате. Даже сквозь ком тошноты одеколон разъедал бронхи. Она не станет сегодня жаловаться, просто будет тщательно гладить — вот так и вот так, острым носом в мягкие складочки — она никуда не спешит.
— Слушай, если ты идешь, давай скорее, у меня в одиннадцать встреча. Дай, я выглажу, одевайся пока.
Он поставил тяжелый утюг на оборку, она бросилась спасать.
— Ты что делаешь?! Я не пойду с такими заломами!
— Да все нормально, посмотри, ну какая разница? Будем плакать из–за рубашки?
И правда, какая разница? Надеть чистую рубаху, чтобы тут же все испоганить. Как на плаху.
— Ты не знал, что к гинекологу наряжаются?
— Перестань. Давай спокойно поговорим.
— Ты уже столько сказал! Ты не хочешь.
— А ты? Ты хочешь? Не дали грант, дадут другой, сейчас полно возможностей — так ты решила стать матерью–героиней. Только Зайкин подрос…
— Я ничего не решила.
— Ты хоть объясни! Мы хотели троих? Снова сидеть дома и стричься наголо?
— Стричься наголо… Подожди–ка, чуть не забыла… Минут десять подожди еще…
Она зажмурилась, выйдя из подъезда. Пахло землей, подметенным асфальтом. Свет восполнял недостаток тепла. Вспомнила, как легко шагалось с папой в детсад: голым коленкам слегка прохладно, но солнце ласкает, и верится в теплый день. Хорошее сегодня небо. «Иже еси на небеси, иже еси…» В детстве казалось, «иже еси» означает «если ты есть», теперь–то знала, «иже еси» — это «сущий». По–прежнему не знала, существует ли, и молилась, вкладывая детский смысл: «Если ты есть на небесах, если ты есть …»
Вот уж за трамваем–то она точно не побежит, сколько б ее ни тянули за руку. Думает, незаметно?
— Все, я решил, пошли домой. Я не могу тащить тебя силой, — он повернул в обратную сторону. — Сейчас–то ты что упираешься?
— Просто тошнит, и ремешки на босоножках… Я не пойду домой.
— Я уже совсем не пойму, чего ты хочешь.
Господи, как она понимала, чего не хочет! Не хочет на аборт, это точно. Но не потому же, что муж спешит на работу!
Хоть бы трамваи остановились, что ли… Или бы в консультации прорвало трубу.…
— Я подожду здесь, на лавочке. Предупреди, если долго.
Сонная регистратура, настороженное трюмо, пронумерованные двери, двери, двери… Здесь ждут.
— По талонам?
— Живая очередь.
— Мини–аборт, не температурим? Валерьянку берем дружнее!
Забыла тапочки. За дверью звякает… Лучше на воздух.
— Ну, ты что?
— Седьмая в очереди. Дай анальгин. И ношпу дай. Схожу еще посмотрю… Теперь четверо передо мной. Дай еще на всякий случай. Жарко… Вон ту белую в сарафане видишь? Она уже все.
— Ирин, так невозможно, что ты бегаешь? Я поймаю машину — я же вижу, что ты не хочешь.
Она хотела, чтоб он не хотел… или хоть кто–нибудь, кроме нее. «Отче наш, иже еси на небеси…»
— Лёнечка, все.
— Сделали?
— Нет, одна девушка передо мной. Уже зашла, наверное. Все. Моя очередь.
— Ну, давай. С богом…
«Господи, останови меня!»
— Следующая!
Предыдущая корчится на кушетке. Еле живая, уже выпотрошенная, молоденькая. Не догадалась взять анальгин, постанывает.
— Эй, Закирова, тебе плохо?
— Нет, хорошо.
Бледная, за живот держится… «Господи, покажи, что ты есть…»
— Женщина, вы отвечать не будете?
— Вы мне? С десяти, по пять, через двадцать пять, с восемнадцати.
— Залезайте. Что, рожали тоже в трусах?
Ну, да, конечно, как же она… Сейчас все закончится, уже берут инструменты… Вдохнуть поглубже, расслабить живот. «Господи, не допусти!!!»
— Вам лучше прийти через три дня.
— Что??!!
— В понедельник сможете прийти? Пусть подрастет, тогда получше сделаем. Срок маловат.
Она вскочила с кресла. Она же знала: срок не бывает маловат. Пусть подрастет.
— Держите направление. Да что с вами?
— От анальгина… А если я не приду? Если вообще не приду, анальгин не был вреден?!
Она задыхалась от счастья. Так хорошо, что просто страшно. Сердце стучало, как ребенок в животе.
— Что с тобой? Иркин, тебе плохо?
— Нет, Лёня, нет. Меня не взяли… Мне хорошо…
Живность
С избытком хватало пса, доставшегося от друзей, а девчонки все время просили кого–нибудь маленького, чтоб вся любовь умещалась на ладошке. Маша принесла белую мышку, назвала Цуцей, Зойка тут же выклянчила в детском садике вторую, уже рожавшую Мамочку. Самки порой дрались, их рассаживали в трехлитровые банки. Тогда Цуца умудрялась подпрыгнуть до горлышка, прогрызть дырочку в марле и перебраться к ненавистной подруге. С возрастом они стали неразличимы. Однажды летом о мышках забыли на двое суток и, спохватившись, обнаружили, что одна догрызает вторую. Прошло два года, полновесный срок мышиной жизни — хотелось думать, что это было не убийство, а санитарные работы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рассказы»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рассказы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рассказы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.