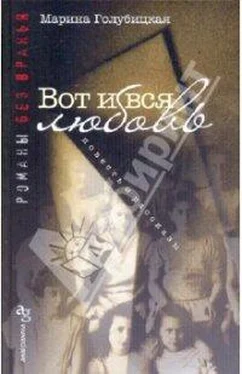— Но ведь про это никогда не писали…
— Даже слышать, — даже слышать! — об этом не хочу… Мы тут с Вольфом Соломоновичем говорили, а Вольф Соломонович человек очень мудрый: понимал ли Ленин, что он натворил? Ведь за что–то он получил эту смерть. Такую мучительную и долгую…
Переглядываемся: при чем тут Ленин? Разве смерть зависит от жизни? Снова эта ее наивность, как тогда, после Лениной практики:
— И ты, Ленечка, допрашивал человека?
— Мошенницу из домоуправления.
— Да как же это — допрашивать, это бесчеловечно! Ты допрашивал? Как Порфирий Петрович?
И обрадовалась, узнав, что мошенница сама вела свой допрос: «Это не подпишу, это я так, тебе для опыта. Я, мальчик, сама продиктую… Записал? Ставь точку. Теперь распишемся».
Почему–то я не помню деталей. Был ли у нее в доме порядок или запущено, и в чем они выходила: в халатике или в чем–то приличном. Я вижу ее квартиру, как отражение в потемневшем трюмо. Стеллажи до потолка и книги, книги, книги. А вещи, а их качество? Не помню. Наверное, они с мужем были по–советски богаты, наверное, имели старинные финтифлюшки, муж родился еще до революции, наверняка же у них что–то было. Я помню ощущения: приглушенный звук, приглушенный свет. Дверь открывает старик, благородный и крепкий: «Леночка, это к тебе». Мы разговариваем час–полтора в гостиной, в комнате с нарядными книгами — книги нарядные? или шкафы? — даже чаю не пьем, потом слышим его шаги за дверью, он стучит, появляется в комнате, высокий и строгий, с внушительным черепом: «Леночка, нам пора». Он никогда с нами не разговаривал, и мы чуть–чуть не любили его — за то, что ради будничного общения с ним она прерывала наш праздник.
А что Виталик? Виталик рано женился, работал в библиотеке, где еще мог работать этот маменькин сынок! — мы сами решили, что он маменькин сынок, она мало о нем говорила. Она всегда интересовалась Лениными стихами. Я не любила, стеснялась, когда Леня читал, мне казалось, будто он обнажается. Однажды сказала ей об этом.
— Понимаю, это как если б Виталик читал публично…
Так мы узнали, что Виталик тоже пишет. Он поступил в аспирантуру, в Ленинград, занимался Блоком — Леня ему даже завидовал.
На последнем году аспирантуры я родила девочку, недоношенную, слабую. Родители переехали в Свердловск. Я прилетела к ним выхаживать ребенка, не догадываясь, что меня ждет остановка во времени: я никого не знала в этом городе… Мне приснилось, что Елена Николаевна овдовела. Не помню, долго ли я собиралась с духом, но когда я ей позвонила, ответил надтреснутый старческий голос, — я не сразу узнала ее.
— Елена Николаевна? У вас ничего не случилось?
— Случилось, Иринка… Умер Вольф Соломонович.
— Я так и знала.
— Как ты почувствовала?
— Приснилось… Как вы там?
— Очень плохо… Как же еще?
— А разве вы не были готовы?! Вы же знали, что ваш муж уйдет первым?
Ему должно быть восемьдесят пять, я посчитала.
— Ох, Иринка! Не трогай ты этого…
Я пыталась потрогать пальчиком горе. Горе, такое горе было в ее интонации, что я впервые ощутила: и утраты невосполнимы , и концлагерь не заживает . «Интонация, — учила она, — в тексте так важна интонация».
— А что теперь?..
— Не могу здесь оставаться. Поеду к Виталику в Кокчетав, у них комната в общежитии…
— Можно я вам письмо напишу?
— Да я буду счастлива, Иринка!
Я слышу эту интонацию, как сейчас: «Да я буду счастлива, Иринка!»
— Ну, вот, слава богу, а то у вас был такой голос… как у интеллигентной старушки.
— А кто ж я по–твоему? — как хорошо она рассмеялась! — Уж не знаю, как насчет интеллигентности… Пиши адрес: «Казахская ССР…»
Но я ей не написала. Я представляла себе общежитие, обтрепавшиеся конверты на вахте и пугалась, что письмо затеряется, и заранее воображала свои мучения в ожидании ответа… А может, я не хотела знать ее тещей–бабушкой, просто матерью при каком–то Виталике.
Я начала свою взрослую жизнь, совсем не будучи к ней готова. Наташа Ростова по эпилогу… Я была не Наташа Ростова. Жизнь как целеполагание, жизнь как целедостижение — вот что было представлением о счастье. Университет — аспирантура, замужество — дети, пятерки — успех. Боже, как я споткнулась на детях! Никто не учил, что надо все отодвинуть. Если твой ребенок болен, несчастен, — просто все отодвинуть, и все. Не врача вызывать, не лекарство давать по часам, а заботиться и любить, любить и заботиться. Нет одежды, еды, — искать на рынке, нет денег, — заработать. Зарабатывать — это казалось мещанством! Заставлять мужа — как же так, мы равны! Я ждала какой–то ровной, равномерной жизни. Чтоб и книги, и спорт, и работа, и отдых. Был ли муж мой счастливей? Не знаю. В те дни был свободней…
Читать дальше