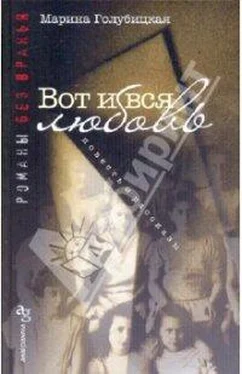— Зоинька, это не пароход.
— Какая разница? Я хочу говорить «пароход»!
Действительно, какая разница, когда он такой красивый, что хочется говорить «пароход», не задумываясь, какое там топливо. Белый пароход — настоящий праздник. Мы едем с пляжной знакомой и ее дочкой, Зоиной подружкой. Сиюминутно мы, конечно, с Кипра, но в анамнезе у нас так мало солнца, грязные сугробы, клещевое лето… Девчонки сходят с ума от радости, бегают по ковровым дорожкам, дергают на всевозможных дверях надраенные ручки, путаются в лестницах, переходах и зеркалах, перебегают с одной палубы на другую, осваивают причудливое внутреннее пространство. Нас приветствуют моряки, нам улыбаются официанты — элегантные негры в малиновых жилетах. Белые рубашки, белые перчатки. Китель капитана с блестящими пуговицами, кокарда с золотым жучком!..
У нас каюта без иллюминатора, желтые стенки, но дети довольны — опять много кнопочек, да и зачем сидеть в каюте. Я не взяла теплую одежду, на палубе ветрено, мы устраиваемся за столиком в музыкальном салоне. Здесь исполняют песни и танцы народов мира и снуют официанты с напитками. Публика разноязыкая, и, заслышав родные звуки, многие подпевают, аплодируют, рвутся танцевать. Но странно — никто не приветствует «Хаву нагилу» и то, что по–русски поют про старушку. Никто не сигналит: мы здесь, это наше! Я привыкла, что, заслышав «семь сорок», пальцы под мышки засовывают все — и татары, и евреи, и русские. Мне не терпится выскочить в круг, а круга нет, — неужели совсем нет евреев? Я оглядываю рыжих ирландцев, низкорослых греков, шумных итальянцев. Неужто и правда нет?
…А вот еще одно размышление. Дурацкое, но я не могу от него отделаться: евреи. Иринка, почему одни евреи? Ведь встреча–то «классом»? Где хотя бы Андрюшка Стрельников? Девочки, с которыми ты дружила? А то получается, что к вам тянулся народ из других классов не потому, что вы были самыми интересными людьми в старших классах, а потому что — самыми интересными евреями? (Ну, это уж очевидная дурость, продиктованная ревностью к моим любимчикам из 9 «г»!) Ну, и тем, конечно, что здесь уж очень озабочены этим вопросом — еврей–не еврей, а про Россию я до ваших фотографий думала: ну, там–то все по–старому, так как было в школе или у В. С. на кафедре. У него были: якутка, татарин, чуваш, башкир, несколько русских и только два еврея. И то одну из них он недолюбливал за ее вечные притязания занять особое положение «по еврейству». Тут он доходил до зубовного скрежета. И дома у нас всегда было безо всякого разбора. В голову не приходила дикая и дикарская мысль делить людей по национальности.
Теперь–то что с народом сталось? Откуда, зачем, почему надо стало делиться на чистых и нечистых, кошерных и не совсем, избранных и еще бог знает каких.
Главное же — теория порождает такую жестокую практику, что, боюсь, чтобы похоронить здесь такую «особь», как я, сыну придется стоять на коленях, как ему уже однажды пришлось, чтобы «русия старуха» была прооперированна.
Посему — не дай бог вам приехать сюда на п. м.ж. А впрочем, с очень большими деньгами здесь живут неплохо. Кроме известных неудобств партизанского типа…
Я узнала, что мой папа еврей, лет в пять–шесть и тут же оповестила обо этом весь двор. Ни у кого, кроме вредного Каца, новость не вызвала интереса — Аркаша же загордился, что знал об этом раньше, чем я.
Дома был советский быт и русская кухня. «Какой я еврей? Языка не знаю, культуру не знаю», — пожимал папа плечами, но на всякий случай перечислил мне имена великих евреев: Эйнштейн, Карл Маркс, Аркадий Райкин. Папа слушал Райкина по воскресеньям в передаче «С добрым утром!». Запись, как правило, была невнятной, мешал смех зала. Радио висело на кухне, где мама с бабушкой наперебой гремели посудой, папа вжимался в приемник ухом, молитвенно шикая: «Тише, тчш–ш–ш-ш, ш–ш–ш!» Всегда строгий и сосредоточенный, папа трясся от смеха, жмурился, повторяя обрывки фраз, снова жмурился и смеялся, нос его заострялся сильней обычного, а мама фыркала:
— Да не гримасничай ты, как старый еврей! Типичный Григорий Львович…
Григорий Львович — папин отец, мой дедушка, жил в другом городе с бабушкой Розой. Когда купили телевизор, я обнаружила, что Райкин похож на деду Гришу…
В первом классе, где мы учились вместе с Кацем, стояли парты трех размеров — мои коленки упирались в крышку самой большой, а Аркашу посадили на самую маленькую и дали подставку для ног. Он задирался всегда и везде, мне приходилось защищать его от хулиганов. Классу к восьмому, когда хулиганы выросли, а я нет, я по привычке заслоняла Аркашку, он все еще был на голову ниже меня, и дядя Миша, мой двоюродный дед, объяснял:
Читать дальше