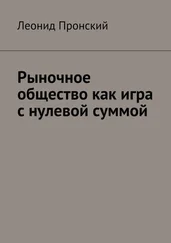В последнее время Антон Тимофеевич всё более ненавидел Немыкина, особенно, когда он выдал дочь за Игоря Севрю- кова! Это сперва ошарашило, но потом Антон Тимофеевич даже радовался, что Лада вовремя раскусила прохвоста! Но каков Немыкин?! Вконец осмелел, всякое уважение потерял к тому, кто его кормит.
Когда подошла машина с гостями, Самохвалов собрался с духом и встретил их вместе с улыбающейся Леной в «предбаннике». Когда гости разделись, двоим из них Самохвалов открыл дверь в комнату отдыха, уставленную напитками и закусками, а Шастину дал знак, чтобы тот задержался.
— Маленький разговор есть, Герман Львович! Прошу! — указал Самохвалов на стул сбоку от своего стола.
— Мы одни? — присаживаясь, зачем–то спросил Шастин, а Самохвалов явно смутился в душе от его неуместного вопроса.
— Скелета в шкафу не держим! — постарался улыбнуться Антон Тимофеевич. — Ну, так что. — сказал он, словно спросил разрешения, и поспешно достал пачки с деньгами из ящика стола, куда их упрятал заранее, и аккуратно положил перед Шастиным, как школьник кладет перед учителем тетрадку с домашним заданием.
— Сколько здесь?
— Как договаривались!
— Пятьдесят тысяч? — спросил Шастин, уточняя, и спросил, как показалось Самохвалову, пугающе громко — так, что даже в приемной, через две двери Лена могла услышать этот вопрос.
— Как договаривались. — шепнул Самохвалов.
— Какой вы скромник, Антон Тимофеевич. Пятьдесят так пятьдесят! — Он взял одну пачку, надорвал упаковку и высыпал купюры на стол. То же самое повторил и со второй пачкой.
Когда взялся за третью, Самохвалов попытался остановить:
— Что вы делаете?!
— Уже сделал, дорогой Антон Тимофеевич! Не повезло вам сегодня.
Шастин не успел договорить до конца, как из комнаты отдыха выскочили гости, а из приемной один за другим вошли еще несколько незнакомцев, и, лишь взглянув на них, Самохвалов всё понял. «Подстава!» — мелькнула опустошившая мысль. Когда же один из вошедших представился следователем губернской прокуратуры, Антон Тимофеевич перестал чувствовать себя. Всё, что потом происходило в кабинете, — происходило, как во сне, когда в присутствии откуда–то взявшихся понятых (одного из которых он сразу узнал, потому что Игоря Севрюкова не мог не узнать, и подумал: «Этот–то сучонок что тут делает?!») долго и нудно переписывали номера купюр, укладывали в пакет, потом опечатали и начали задавать какие–то вопросы; он что–то отвечал на них, чувствуя, что чем дольше говорит с окружающими ненавистными людьми, тем сильнее болит сердце.
Наверное, целый час продолжалась эта канитель, и в конце ее, заставив расписаться в какой–то бумаге, его повели на выход.
— Куда тянете?! — спросил он у Шастина.
— В губернию прокатимся, в следственном изоляторе немного отдохнете от трудов праведных!
На улице персональной машины Самохвалова не оказалось, зато стояли две другие иномарки с сильно тонированными стеклами, за которыми в салоне ничего не разглядеть, тем более что давно наступил вечер. Пока Самохвалов шел к ним, ему показалось, что весь Княжск сбежался посмотреть на плененного главу района. Шастин уселся на переднее сиденье одной из машин, грузного Самохвалова затолкали на заднее и, словно оберегая, подхватили под руки. Иномарка лихо развернулась и покатила по княжским улицам, проседая на колдобинах. Когда выехали за город, один из сопровождавших толкнул Шастина:
— Герман Львович, возвращаться надо!
— Что такое?! — спросил Шастин, не повернувшись.
— Без сознания наш друг…
* * *
В первый момент, узнав о состоянии Самохвалова, Герман Львович всерьез растерялся, словно нарушился некий сценарий и теперь надо было действовать, что называется, с чистого листа, потому что никак и ни с кем не обговаривал подобную ситуацию заранее. До сего момента ему казалось, что его не самая привлекательная роль в этом деле вот–вот должна была закончиться, что, еще немного, и он мог бы с легкой душой доложить губернскому начальству об окончании своей миссии, от которой, признаваясь самому себе, устал до невозможности. И усталость эта была не физической, а иного рода. Она относилась к той непонятной усталости, которую не сразу замечаешь, даже не догадываешься, что она вовсю живет в тебе. Сперва она закреплялась в душе вместе с иными качествами, а потом, разрастаясь, подобно наглому кукушонку, попавшему в чужое гнездо, выталкивала всё и вся, не оставляя места ничему иному–только себе, любимой.
Читать дальше