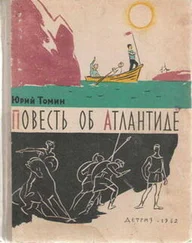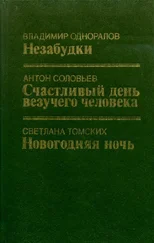— А почему ты записалась именно итальянкой? Просто так или…
— Просто так.
— А знаешь, — сказал он, — ведь мы почти до самого твоего рождения жили в Италии. Мама была певицей.
— Знаменитой? — оживилась Дора.
— Не знаю. Мне казалось, что знаменитой. Я ведь был совсем маленький, мне еще и шести не исполнилось, когда умерли родители. — Он будто оправдывался перед Дорой. — Мама давала концерты и пела в опере. Она была такая красивая! — Мики всматривался в лицо Доры, будто отыскивая что–то. — Вот, взгляни. — И он наконец раскрыл свою планшетку.
Черная плоская глубина поманила Дору. Но там оказалась лишь большая записная книжка в кожаном переплете с серебряной чайкой в уголке. Мики вытащил ее, полистал. Осторожно извлек оттуда согнутую вдвое картонку, в которой лежало несколько лавровых листиков. Секунду подумал и вернул их на место. Снова пролистнул страницы и достал фотографию.
То была фотография Матери.
Зародыш так часто погружался в это мгновение, так напряженно всматривался в кремово–коричневое изображение, дышащее новизной и свежестью, что знал до малейших подробностей нежный овал лица, безмятежную улыбку, задумчиво отогнувшийся мизинец ручки, подпирающей острый подбородок, белую розу на шляпке, полосочки и воздушные рюши блузы. Но образ этот, несмотря на все старания, никак не совмещался с его ощущениями, с радостной поступью Матери, со звоном ее голоса, бьющегося где–то высоко и счастливо, с оживленным шуршанием ее платья и едва уловимым лепетом оборок и невесомой дымки, которую морской ветер перекладывал на ее груди так и эдак, — а, главное, не совмещался с той чудесной мелодией, которой никогда не было в жизни Доры.
Доре фотография очень понравилась, но она никак не могла поверить в то, что эта прелестная женщина — ее мать. Такая молоденькая! В старинных одеждах, как из сказок о принцах и принцессах, живших в давние–давние времена.
— А… папина фотография?
— Нет. К сожалению. — У Мики снова был такой голос, будто ему стыдно, что он не может поделиться чем–то с Дорой. — У меня и мамина фотография оказалась случайно. Папа был очень красивый и очень–очень высокий. Я, кажется, больше и не встречал таких.
— Тоже артист?
— Да нет, не знаю, кем он был. Как–то, помню, мама сказала: «Ты ведь медик», а он ответил: «Скорее химик». Вполне возможно, я что–то неправильно понял. Мы собирались куда–то переехать из Италии, это точно. А перед этим он выехал в Россию по каким–то делам… И отсюда пришла телеграмма… Я даже не знаю, что там было написано. Меня сразу увели к хозяйке. Я слышал, как разбилось какое–то стекло, слышал, как кричит мама, но делал вид, что ничего не понимаю…
Мики замолчал, задумался.
Ах, как хотелось Зародышу, чтобы Мики никогда не произносил этих слов! Порой он начинал метаться, как осужденный, которому неизвестен день казни. Чуть раньше, чуть позже — но весь этот ужас неизбежно должен был навалиться на него. Весь этот звон и крик ему предстояло услышать. Его не могли увести к хозяйке, как маленького Мики. Но хотя бы не знать заранее!
— Ну а потом что было? — вежливо спросила Дора.
— Потом мама начала собираться в дорогу. Она без конца повторяла: «Я приеду туда и там все выясню!» Хозяйка и гувернантка пытались ее отговорить. По–моему, она сошла с ума от горя. Она набила чемодан отцовскими вещами, а для меня не взяла ни пальто, ни теплой обуви. Мы очень долго сюда добирались. И в конце октября я ходил в бархатной курточке и белых туфельках.
— А где вы жили?
— У какой–то старухи. Такая странная была… Дом я нашел, но ее там уже нет. Умерла, наверно. Не знаю, кто она — родственница, квартирная хозяйка… Она продавала на рынке наши вещи и готовила еду. Так ужасно было, беспорядочно… Какие–то люди бегали, стреляли… Маму отвезли в роддом, и я носил туда передачи. В Италии, — улыбнулся Мики, — меня и за порог не выпускали без гувернантки. Пока мы добрались сюда, я стал совсем другим. Ничего уже не боялся. Раз прихожу в больницу. Ты уже дня три как родилась. И мне говорят, что мама заболела тифом, и ее увезли в инфекционное отделение. Знаешь, я тогда по–русски так себе говорил… и ведь добрался! Там мне сказали, что мама без сознания и передача не нужна… Ну, а на обратном пути, — он будто испытывал удовольствие, подходя к счастливому концу, — меня случайно вытолкнули из трамвая, и я сломал позвоночник. Это даже к лучшему вышло. Куда бы я делся… Война, власть несколько раз менялась… Эти белые туфельки, истоптанные, они уже малы на меня стали… А мама прожила еще два дня.
Читать дальше