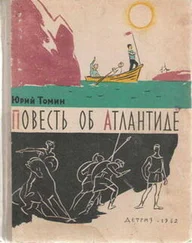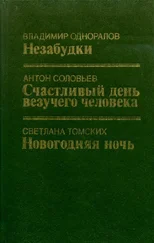Разногласия действительно были. Дора Яковлевна считала, что для новых, послевоенных воспитанников прежние методы работы не годятся. И держать взрослых детей и малышей в одном коллективе не только не полезно, а просто вредно.
Но Зародыш видел одновременно всё и не мог подправлять свое будущее — подобно тому, как Дора Яковлевна с помощью выборочно слабеющей памяти подправляла свое прошлое. Поэтому он знал, что дело обстояло куда прозаичнее. Просто Доре Яковлевне надоело ездить на работу тремя транспортами, а школа, в которую она устроилась преподавательницей русской литературы, находилась в двух шагах от дома.
К тому времени у Доры Яковлевны уже начались проблемы с ногами. Болели стопы, болели тазобедренные суставы. Так она расплачивалась за недолгий блеск сцены, за пуанты неважного качества, за гранд жетэ из вагона в вагон.
Мики возил ее на консультации к известным хирургам, ортопедам, гомеопатам. Он сам платил, сам рассказывал, что беспокоит Дору, особенно напирая на благородное происхождение болезни.
— Видите ли, доктор… — начинал он своим аккуратным, как у диктора, голосом, пока Дора за ширмой спускала чулки. — Моя сестра — балерина, у нее — анкилоз…
Дора молчала, не вносила уточнений. Благодаря этой болезни — мучительной, уродующей ноги — она снова чувствовала себя балериной. Будто над жизнью ее прочертили циркулем полукруг. От юности, от «Лебединого озера» — до содовых ванночек, компрессов и массажа. И, втирая в кожу пчелиный яд, она снова испытывала давно забытое артистическое волнение. Морщилась от боли с горделивым аристократизмом. Ничего подобного не воскрешали в ней ни отчаянные детдомовские пляски, ни тем более балетный кружок, который она организовала в школе.
Двадцать рублей дополнительно к зарплате — вот единственное, что давал Доре Яковлевне этот кружок. Мальчики туда ходить стеснялись, да и девочкам быстро надоедал «вальс цветов» или «танец снежинок». Слабенькие домашние дети боялись поцарапаться или ударить коленку. Дора Яковлевна скучала и даже не очень заботилась о том, чтобы это скрывать.
Собственно, и преподавание литературы не доставляло ей особой радости. Из года в год с изнурительным воодушевлением повторять одно и то же — о Базарове, об Онегине… Она несколько приободрилась было в шестидесятые годы, когда вошло в моду высказывать собственные мысли и отступать от истин, изложенных в школьных учебниках. Но оказалось, что особых противоречий с учебниками у нее как бы и нет. И вся вольность, которую она себе позволила, заключалась в том, что Дора Яковлевна стала рассуждать о литературных героях так, будто речь идет о соседях или родственниках. Иногда на уроке она расходилась почти как сплетница на коммунальной кухне. Особенно доставалось от нее Наташе Ростовой — и не столько за историю с Курагиным, сколько за то, что, едва потеряв жениха, Наташа тут же вышла замуж за его друга. «Женщина глубокая, действительно благородная, отказала бы Пьеру и была бы всю жизнь верна памяти такого человека, как князь Андрей!»
Слушая Дору Яковлевну, ученики догадывались, что она сравнивает судьбу Наташи со своей собственной судьбой.
Если быть справедливым до конца, то никакому такому Пьеру Безухову она не отказала. Разве что верному, порядочному, невзрачному Николаю — да ведь и тот так никогда и не отважился поговорить с ней напрямик. А те мужчины, с которыми ее неуклюже знакомили сотрудники и соседи, были во всех отношениях хуже Николая. Кстати, никто из них не проявил особой настойчивости. И это странно, поскольку Дора действительно была неглупа и хороша собой.
В любом случае Мики сильно преувеличивал, без конца повторяя с благоговением: «Она столько раз могла устроить свою жизнь, но не захотела…» Зародыш сердился на Мики, ибо видел, как Дора, сперва пропускавшая слова брата мимо ушей, на старости повторяла их без зазрения совести. И вдобавок еще с особым нажимом, будто в укор Мики: дескать, она, Дора, не изменила памяти Бронека, а он, Мики, изменил.
В чем, собственно, она видела измену? Или сам Мики наводил ее на эту мысль? Он постоянно вел себя с сестрой так, будто старался загладить какую–то вину. Точно так же вела себя и Соня. И даже их ребенок…
Каждое воскресенье они проводили вчетвером. Это нисколько не напоминало те веселые выходные с вылазками на остров, которых когда–то ждали всю неделю. О реке, о катерах даже не упоминали. В воскресенье с утра занимались домашними делами, а в час дня Мики с женой и сыном отправлялся в гости к Доре. С трюфельным тортом и какой–нибудь дорогой селедкой или колбасой. А то и с зажаренной дома курицей. Яшеньку, племянника, Дора встречала с неизменно шумной радостью, с ясным, энергичным лицом, какое бывало у нее на работе. Для Мики и Сони существовало другое выражение лица, поверх детской головки. Не то чтобы неприветливое… «Ну что ж… Вы надеетесь отвлечь меня от моих мрачных мыслей, и я готова вам немного подыграть…»
Читать дальше