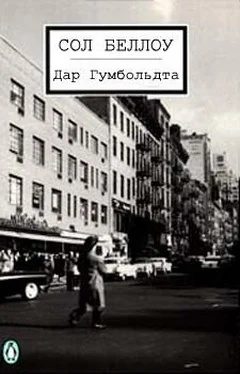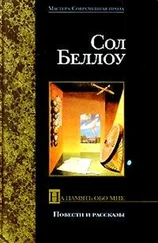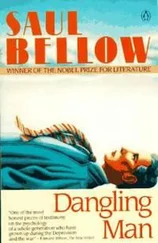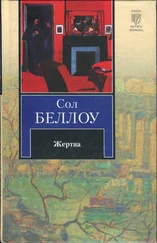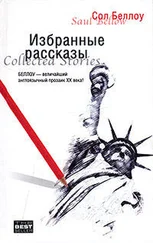Я сидел напротив нее в не вполне свежем бежевом халате. Пояс на нем слишком длинный, и кисточки уже много лет волочатся по полу. Пришел официант, эффектным движением снял с подноса крышку, и мы сели завтракать. Сеньора вдыхала аромат коньяка, а я рассматривал грубую кожу на ее лице, легкий пушок над губой, крючковатый нос с какими-то оперными ноздрями и странный, словно у курицы, блеск глазных яблок.
— Я взяла билеты через вашего агента, ну, через португалку, которая носит пестрый тюрбан, миссис Да Синтру. Рената сказала мне записать стоимость на ваш счет. У меня не было ни цента. — В этом отношении Сеньора совсем как Такстер — она с гордостью, даже с восторгом говорила о том, что у нее совершенно нет денег. — Да, я сняла здесь номер для нас с Роджером. Мое заведение на этой неделе закрыто. У меня отпуск.
При упоминании о «ее заведении» мне на ум пришел сумасшедший дом, но нет, она говорила о школе секретарш, где преподавала деловой испанский. Я всегда подозревал, что Сеньора на самом деле мадьярка. Как бы там ни было, студентки обожали ее. Школа, в которой нет чудаков и чокнутых, гроша ломаного не стоит. Но вскорости Сеньоре придется уйти на пенсию, и кто же будет возить ее инвалидную коляску? Возможно, она видит в этой роли меня? Или пожилая дама, как и Гумбольдт, мечтает нажить состояние на судебном процессе? Почему бы и нет? Возможно, и в Милане найдутся судьи вроде моего Урбановича.
— Так что будем отмечать Рождество вместе, — сказала Сеньора.
— Малыш очень бледный. Он болен?
— Просто устал, — отмахнулась Сеньора.
Тем не менее Роджер свалился с гриппом. Администрация отеля пригласила превосходного испанского доктора, выпускника Северо-Западного [406]университета; сперва он развлекал меня воспоминаниями о Чикаго, а потом содрал несусветную цену. Пришлось заплатить ему по американским расценкам. Я дал Сеньоре денег на рождественские подарки, и она накупила всякой всячины. В канун Рождества, думая о своих девочках, я совсем расстроился. Одна радость — рядом был Роджер, я все время проводил с ним, читал ему сказки, вырезал из испанских газет длинные полосы и склеивал их в гирлянды. Увлажнитель воздуха, работавший в комнате, усиливал запах клея и мокрой бумаги. Рената не звонила.
Я вспомнил, что рождество 1924 года провел в туберкулезном санатории. Медсестры подарили мне толстенный мятный леденец и красный вязаный рождественский чулок, полный шоколадных монеток в золотой фольге, но радости от этого не прибавилось; подарки угнетали меня, мне ужасно хотелось к папе и маме и даже к толстому и злому братцу Джулиусу. А теперь я, состарившийся изгнанник, жертва суда по семейным делам, торчал в Мадриде и снова переживал то же потрясение и ту же душевную боль, вздыхал, резал и склеивал бумажные полоски. От побледневшего из-за болезни Роджера веяло ароматом шоколада и пастилы, а все его внимание поглощала длинная бумажная цепь, дважды обегавшая комнату и уже достаточно длинная, чтобы развесить ее над люстрой. Я изо всех сил старался вести себя дружелюбно и спокойно, но то и дело на меня накатывали чувства (ох уж эти мерзкие чувства!), как вода, что бьет в паром, когда широкий корпус приближается к берегу и тормозящие двигатели выносят со дна на поверхность разный сор и апельсиновую кожуру. Теряя самообладание, я представлял, чем Рената занимается в Милане, комнату, в которой она сейчас, мужчину рядом с ней, их позы и пальцы на ногах этого мужчины. Я решил: нет, я не могу вести себя как всеми покинутый страдалец, выброшенный на берег после кораблекрушения и мучимый морской болезнью. Я попытался вспомнить Шекспира — те строки, где говорится, что Цезарь и Опасность — два льва, два брата-близнеца, и Цезарь среди них двоих и старше и страшнее. Но Шекспир — это слишком уж высоко, а потому цитата не помогла. Кстати говоря, двадцатый век сложно ужаснуть страданиями вроде моих. Этот век много чего перевидал. Но разве после ужасов холокостов можно обвинять мир в отсутствии интереса к личным переживаниям такого рода? Я коротко напомнил себе настоящие проблемы, стоящие сегодня перед миром, — нефтяное эмбарго [407], упадок Британии, голод в Индии и Эфиопии, будущее демократии, судьбы человечества. Это принесло не больше облегчения, чем Юлий Цезарь. Уныние меня не оставляло.
И только когда я уселся во французское парчовое кресло в маленькой парикмахерской «Рица», стилизованной под XVIII век, — я зашел туда не потому, что пора было стричься, а только для того, как это часто бывает, чтобы почувствовать человеческое прикосновение, — мои смутные подозрения насчет Ренаты и Сеньоры начали проясняться. Например, как могло случиться, что Роджер оказался готов к отъезду, едва только с дедушкой Кофрицем случился удар и паралич разбил одну сторону его тела? Каким чудом старухе удалось так быстро получить для него документы? Ответ дал мне паспорт, — поднявшись наверх, я тайком изучил его, — выданный еще в октябре. Дамы подготовились заранее. Один я не сумел рассчитать наперед. И теперь решил взять инициативу в свои руки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу