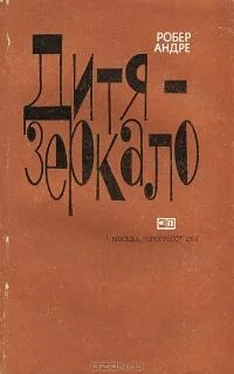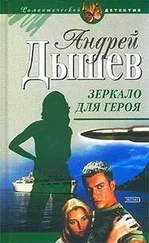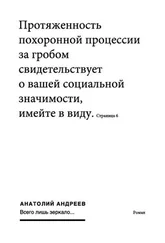Расстегнув верхнюю часть корсажа, она распускает волосы, разрушая замысловатое здание шиньона, по плечам у нее рассыпаются белые пряди, потом к ногам падает платье, и она остается в нижней юбке и кофте. На этой стадии она садится и снимает чулки, потом возвращается к ночному столику и кладет на него очки, а также вставные зубы, которые помещает в приготовленный для этого стакан, стоящий возле плевательницы с задвигающейся крышкой. Очередность этих операций совершенно незыблема, и способность Люсиль по собственному желанию освобождаться от каких-то частей своего тела укрепляет мое восхищение ею. Больше всего меня гипнотизируют зубы, ибо они почти никогда не бывают там, где обычно находятся у нас. Прабабушкины челюсти так же непоседливы, как и ее очки; и те и другие постоянно теряются, и по этой причине у нее возникают трения с окружающими, которые обвиняют Люсиль в несоблюдении правил гигиены. Когда она снимает перед сном зубы, я вижу, как вдруг меняется в слабом свете керосиновой лампы ее профиль, весь переламываясь, как у полишинеля; передо мной в полумраке маячит белый согнутый силуэт с белыми волосами, струящимися вокруг горбатого носа и торчащего вперед подбородка. И мне кажется, что это уже не прабабушка, а одна из тех сказочных колдуний, которые, тряся косматыми головами, выскакивают из лесной чащи на поляну. Освободившись от зубов, прабабушка опять встает у изножия кровати, снимает с себя нижнюю юбку и кофту и возникает передо мной уже в комбинации и в корсете, представляющем собой нечто вроде гибкой кольчуги; она принимается его расшнуровывать, и я, которому бывает трудно дышать даже с открытой грудью, с изумлением спрашиваю себя, как жо она дышит в этих оковах! Но ей, как ни странно, дышится лучше как раз в корсете, и приступы удушья порою случаются с ней тогда, когда, избавившись от доспехов, она ложится в постель. Расшнуровывание тянется долго, узлы и бантики с трудом поддаются усилиям ее изуродованных артритом и обмотанных тряпками пальцев, и она жалуется вполголоса:
— Вот ведь несчастье-то!..
Наконец панцирь сброшен, талия утолщается, но не думайте, что мы у цели. У Люсиль освобождены от одежды пока только руки, а до тела еще далеко; теперь она на стадии дневной рубашки и пышных, с напуском панталон до самых колен; зимою поверх рубашки бывает надета еще легкая фланелевая душегрейка. Начиная с этого этапа, я уже почти не вижу Люсиль, ибо она, должно быть из стыдливости, сперва натягивает через голову ночную рубаху и уже под ней освобождается от последней одежды; подробности этого процесса от меня ускользают: широченная, словно мантия, ночная рубаха опускается на тело с поразительной быстротой, и так же быстро соскальзывают на паркет остальные детали белья.
И вот, завернувшись, как призрак, в нелепый ночной балахон, из которого выглядывают лишь босые ступни, она наконец готова к свершению последнего обряда. Сняв крышку с гигиенического ведра, стоящего перед камином, она приподнимает рубаху и усаживается. Я слушаю, как рокочет каскад. Потом, многократно вздыхая, она встает, помешивает, если дело происходит зимой, щипцами огонь в камине, взбирается в свой черед па пирамиду кровати и устраивается как можно выше, привалившись спиной к двум огромным подушкам, чтобы было легче дышать — у нее обычно нелады с дыханием; она почти сидит на постели, и мне виден ее профиль полишинеля. Тут она произносит всегда одну и ту же фразу:
— При этой проклятущей жизни хоть в постели отдохнешь.
Я засыпаю на этой постели совсем не в том ритме, к которому привык дома. Я уже не тороплюсь провалиться в глубины сна, но спешу поскорей убежать от окружающей меня яви, а стараюсь подольше держаться на поверхности и потому обнаруживаю, что в мире существует тоненькая полоска бытия с очень зыбкими краями, которая была совершенно мне недоступна в тесной и жесткой кровати с металлической сеткой в родительском доме, открытой всем сквознякам и скандалам; эта полоска, где образы полусонного сознания перемешаны с кусками воспринимаемой реальности, двойственна и двусмысленна по своей сути, словно некая отражающая поверхность, и ты уже не знаешь, где сама эта поверхность, где в ней отражение, с какой оно стороны, и неясности этой также способствуют маячащие передо мной на стене гравюры—
всадники в красных камзолах, собаки, преследующие лисицу, лавина лап и оскаленных морд, несущихся через луга и леса; с улицы, которая где-то совсем рядом, просачиваются сквозь щели в ставнях слабые блики света, до слуха долетают чьи-то невидимые шаги, напоминая мне таинственное постукивание, которым дают о себе знать духи тети Луизы, а справа надо мной высится помятый профиль с белыми волосами пророчицы, доносится хриплое дыхание Ма Люсиль, ее бормотание, неясное, упорное повторение одного и того же с одержимостью старого человека, которому уже давно неуютно жить в настоящем, и он ищет утешение в воспоминаниях о далеком прошлом.
Читать дальше