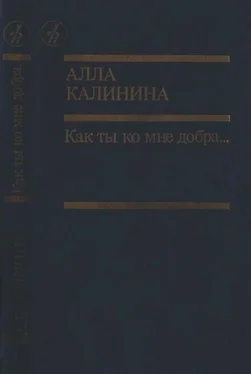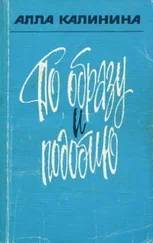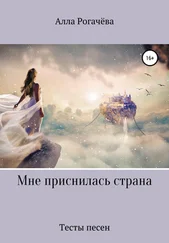— Спасибо, Вета, что ты обо мне вспомнила, но я не хочу чаю, я уже ужинала… Здравствуйте, Ира.
— Зрасьте!
— Ну, просто так посиди с нами, мама.
— Нет, спасибо, я почитаю немного и буду ложиться. Я уже приняла снотворное. Ты зайдешь ко мне через полчаса, Рома?
И вот так было всегда, каждое слово было неспроста, каждое слово было ответом на что-то, намеком на что-то, выражало тайную обиду или недовольство, целилось в Вету, цепляло ее. Неужели вот это все вместе и называется счастливым замужеством? Но сейчас Вете было не до этого, сейчас надо было думать о маме и об Ирке.
— Ну а он, Федоренко, что же он?
— Он давно уже к нам ходит, сидит, развлекает маму. Он старый вдовец, еще давно, при папе. У него два сына, взрослые, женатые, оба не в Москве. Федоренко нашу маму любит…
— Ну а она?
— Не знаю, наверное, она его тоже. Потому что, когда он приходит, она такая делается веселая, веселее, чем при папе. Краснеет. В общем, я не знаю, я последнее время стала уходить… Это, знаешь, тоже довольно неприятно — бродить черт знает где, когда гулять совсем не хочется.
— Ну и не уходила бы, ты же дома.
— Какая ты, Вета! Думаешь, это легко? Думаешь, мне легко было примириться? Я тоже, вроде тебя, на стенку лезла, а потом подумала и смирила себя. Потому что — что же делать-то, она права. По-ихнему считается, что она еще молодая, сорок семь лет. Я этого, конечно, не понимаю, но они все говорят — молодая! И Федоренко тоже, он вчера со мной разговаривал…
— Нет, ничего я не понимаю, после папы — Федоренко! Помнишь, папа говорил, что ни операция — неудача, потому что бездарь. Он серый какой-то, неумный, и эти дурацкие анекдоты…
— Ты не думай, Вета, — сказала Ирка, — я хотела, хотела пойти работать, я сама ей предложила, пошла бы тогда на вечерний, но она плачет. Плачет, и все, даже говорить об этом не может. И я, знаешь, подумала, получается, что я ей назло работать пойду, лишь бы ей сделать плохо. Понимаешь, это тоже получается нечестно.
— Ах, все я понимаю, Ирка. Но почему она хотя бы сама со мной не поговорила?..
— Ну, я же объясняла тебе, Вета, я у нас за мужика. Сергей Степанович хотел, но я его не пустила. Потому что — ну чего бы он к тебе вдруг приперся? Мне ведь легче, все-таки мы сестры, Вета, правда? Все-таки мы свои… — И тут Ирка вдруг заревела и кинулась Вете на шею.
Это было так неожиданно, необычно и так прекрасно — держать ревущую Ирку в своих объятиях, прижимать к себе, гладить по мягким волосам, чувствовать, как она содрогается и всхлипывает в ее руках. И вот они уже ревели обе, сморкаясь и утешая друг друга, а над ними метался Роман с горячим чайником в руках и никак не мог сообразить, куда его поставить.
Федоренко переехал к Юлии Сергеевне через неделю, и сразу же они вместе с Иркой стали собираться в отпуск, в Сочи; там на Приморском бульваре, возле самого пляжа, Федоренко снял дачу, две комнаты и террасу. Они звали Вету с собой, и Вета наконец согласилась.
Роман остался один, и, как это ни странно, ему сразу стало легче. Вечерами он засел за работу, надо было собрать разрозненные мысли и планы, обрывки каких-то неясных ему самому идей, которые бродили в его голове, пока еще не находя себе четкого выражения. Надо было подготовиться к новой работе, к новым задачам, которые хоть и были пока неизвестны в деталях, но зато он и думать о них мог сейчас шире, обобщенней. Надо было много читать, кое-какая литература уже была ему рекомендована на новом месте, за одной книгой сама собой тянулась другая, голова работала ясно, жадно впитывая новые знания, новый и прежде далекий от него круг понятий.
Он соскучился без работы и теперь все вечера проводил в библиотеке, а вернувшись домой, встречал испытывающий, слегка иронический взгляд Марии Николаевны, который как будто говорил ему: «Вот видишь, насколько лучше нам без нее, а ты упрямишься». Теперь мама не отсиживалась вечерами в своем закутке, а встречала Романа в столовой, ухаживала за ним, а иногда даже садилась за рояль, увлекалась, молодела. И тогда Роман выходил из комнаты, становился рядом, слушал, задумчивый, нежный, благодарный. А когда она кончала, он целовал ей руки и говорил восторженно:
— Все-таки ты необыкновенно играешь, мама, необыкновенно! Откуда берутся эти твои импровизации? Я никогда не мог этого понять. Как будто два человека спорят, один — страстный, нетерпеливый, безумный, а другой — изысканный, сдержанный, собирает все, что тот расшвырял, и складывает в дорогой старинный футляр. Как это у тебя получается? Все знакомо и незнакомо.
Читать дальше