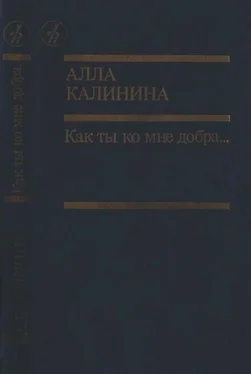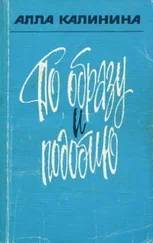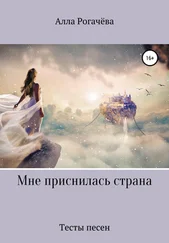Они сели на скамью, на оставленную двумя старичками газету, сидели молча, впитывая тепло, звуки, запахи этой ранней московской весны, и Вета чувствовала щекой, как нагрелось на солнце черное сукно Роминого пальто. Потом подул ветерок, потянуло по скверу собравшуюся в каменных углах прошлогоднюю пыль, стало зябко, и они поднялись, смущенные тем, что разговор опять застрял. Но все-таки они были вместе, дружно вышагивали по улице Горького вниз, к метро, ежились от вдруг набежавшей весенней прохлады, и Вета ловила в темных стеклах витрин свое отражение и была довольна тем, что иногда мелькало там, — они были красивой парой, высокие, молодые, светловолосые. «Все должно быть хорошо, — думала она, — все будет хорошо».
Приближалось лето, а в делах Романа по-прежнему не было никакой ясности. Космическое ведомство молчало, словно забыло о нем, но и у себя на работе он стал будто чужой, на него обиделись. Теперь он понимал, что сделал ошибку, рассказав обо всем Михальцеву, ему просто не терпелось поделиться своей радостью, успехом, но это была глупость. Порывистый, нервный, желчный Михальцев, который всегда помогал ему, оберегал, как тигр кидался на его защиту, когда Роман был его человеком, теперь стал с ним сух, холоден, официален. Теперь Роману ничего не поручали, ничего не рассказывали, он словно повис в безвоздушном пространстве. Демократическая, свободная, дружеская обстановка в лаборатории сохранялась по-прежнему, но он был исключен из нее, оказался один. Он пытался сломить отчуждение, неуклюже, беспомощно влезал в чужие разговоры, выскакивал со своим мнением, тыкался носом в насмешку или недоумение и сам понимал, что смешон.
Это был его проклятый замкнутый характер, он ни с кем не умел быть по-настоящему близок, его уважали, даже, может быть, любили, но доверительных, легких, приятельских отношений у него не было ни с кем, женатым людям был непонятен его образ жизни, для холостой молодежи он был слишком серьезен, слишком солиден. Да и степень его и его успехи, прибавляя ему научного веса, ставили его в лаборатории особняком. Если сказать по чести, раньше он даже гордился этим, но теперь… Каждый день он назначал себе поговорить с Михальцевым и каждый день откладывал, стыдился, ждал чего-то. Но однажды случай все-таки представился. Они вместе возвращались с ученого совета, было поздно, из лаборатории уже все разошлись, они были вдвоем. И Роман решился.
— Юрий Константинович, мне необходимо с вами поговорить, — сказал он ему в спину и замер, ожидая ответа.
Михальцев обернулся с язвительной улыбкой:
— Что вы говорите? О чем же это?
— Юрий Константинович! Мне очень неприятно, что наши отношения так изменились последнее время…
— Вот уж не думал, что ты, как барышня, любишь выяснять отношения!
— Я не люблю выяснять отношения. Но я оказался в нелепом положении неблагодарного, чуждого коллективу человека. Вы же знаете, что это не так. Я всегда помню, как много вы для меня сделали… Нет, я не так говорю…
— Скажи, Роман, а ты бы мучился так, если бы тебя оформили побыстрее? Только честно. Наверное, махнул бы хвостом и был таков? Просто ты волнуешься — а вдруг не выйдет, и здесь отношения уже испорчены. Правильно я говорю?
— Не знаю, — Роман смутился, — может быть, что-то такое и есть, но совсем в другом смысле. Я, конечно, тревожусь, что они так долго молчат, но ведь я не ищу никаких выгод и не готовлю отступного, мне просто очень тяжело чувствовать себя отверженным в лаборатории, с которой у меня так много связано…
— Ну что тебе сказать, Роман, ты же знаешь, мы все так относимся к своей работе и именно поэтому остаемся ей верны, хотя тоже догадываемся, что, наверное, существуют и другие места, может быть, и лучше оснащенные, и более перспективные. Но, видишь ли, все ухватить нельзя, погонишься за одним — упустишь другое.
— Значит, по-вашему, я совершил ошибку? Мне не надо было соглашаться?
— Я сказал, что надо иметь мужество терять.
— Юрий Константинович! Неужели вы это всерьез? Вы что — наказываете меня? За что? Неужели же нельзя отнестись к этому иначе, как к нормальному, обычному движению жизни?
— Все можно — теоретически. А практически — плевали мы на твое движение, ты уж меня извини. Двинулся — и иди, чего ты от нас хочешь? Сожалений? Их нет. Работал ты, теперь будет работать другой, подучим немного, будет не хуже тебя.
— И все-таки я чего-то не понимаю, — упрямо сказал Роман, — в чем я провинился перед вами? Что плохого сделал?
Читать дальше