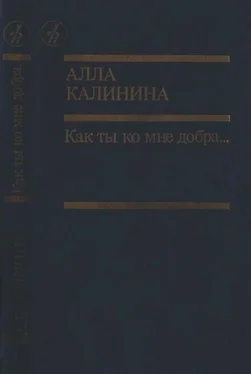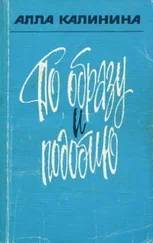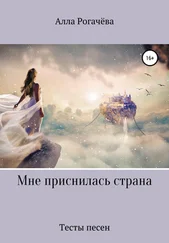В жизни что-то сдвигалось, непоправимо, невозвратимо. Стоя на месте без действий, без усилий, она тем не менее ощущала движение, словно мощная река несла ее вперед, к водовороту, к водопаду. Ей было страшно.
Молодость уносилась назад, жизнь проходила мимо. Еще немного, еще год, два, три этой ужасной неподвижности — и она пропала, погибла, она сломится, смирится со своей судьбой, рухнет в эту пропасть безнадежности, бессмысленности, жизненной неудачи. Ничего, ничего у нее нет: ни семьи, ни любви, ни работы. Что ей делать, как выдержать, как бороться? С чем бороться, когда кругом такая тишина, такая пустота? Что-то происходит со временем, оно стоит на месте и тем не менее летит, стремительно, неудержимо, бесповоротно. Его невозможно не только удержать, даже ощутить. Да и хочет ли она остановить это бессмысленное, пустое время, зачем оно ей? Что с ним делать? Умом она все понимала — надо браться за работу, а потом уже и за все остальное. Но ничего не выходило. Все равно женщина начиналась с мужчины, с кого-то, за кого можно было зацепиться: с отца, мужа, друга, хоть с мечты. А у нее никого не было, никого и ничего. И от этого все валилось из рук, душа растерянно и равнодушно молчала.
Вета не любила свою работу, не столько лабораторию, к ней она давно уже привыкла, — нет, все в целом, свою профессию, технику, весь круг чужих, ненужных ей проблем. Она ошиблась, приняла себя за кого-то другого. Нет, она вовсе не принадлежала к тем людям, которые считают, что работа — главное в жизни человека, она понимала — жизнь глубока, многопланова, разнообразна, и все-таки в обществе, в котором она родилась и жила, работа была костяком, скелетом, на котором держалось все остальное. И не только из-за денег, но и из-за социального и морального чувства тоже. Нет, ее ошибка была непоправимая, роковая. Без работы спастись было невозможно. Но она приходила на работу, и руки у нее опускались. Она казалась занятой целый день, но занятия ее не затрагивали ни головы, ни сердца, это была пустая, мелочная текущая работа, и ее место было — исполнительское. По своей должности она не могла не сделать того, что ей поручали, и по той же должности не могла, да и не имела полномочий сделать больше. Время утекало между пальцев, она стыдилась себя.
А ведь она знала, знала, каким оно может быть насыщенным — время, как глубоко, как надолго можно нырнуть в глубь мгновения, как оно может расшириться, засверкать, стать бездонным — мгновения страха, редкие минуты понимания, общения с природой, мгновения страсти. А еще есть творчество, есть не мгновения, а часы раздумий, осмысливания себя, подведения итогов, часы, которые поворачивают и поднимают жизнь. Почему же она, понимая все это, ничего не может сделать, ничего конкретного в своей жизни не может изменить, почему она безвольно, как щепка, не двигаясь, движется в этом исчезающем потоке времени?
Ей хотелось ходить. Вечерами, после работы, она часами шагала по арбатским переулкам, дышала свежим воздухом начинающейся осени, любовалась старыми деревьями, особняками и глухими двориками, думала, разговаривала сама с собой.
Однажды совсем недалеко от дома ее что-то остановило. Она подняла глаза. Этот дом был ей знаком, серый, узкий, готический. Он был тесно зажат между другими домами. В узкой башенке виднелось круглое окошко, глухие балконы, фронтоны и фризы украшены были каменными мордами, с балконов под крутые зубчатые крыши вилась зелень. Где, когда она видела этот дом? Что там было еще? Ну конечно — крыльцо с чугунными завитушками, и там, возле этого крыльца, невозмутимый и респектабельный, скрывая нежность, весь в черном, с тростью в руках, стоял папа. Это был дом из ее прекрасного сна. Только сейчас этот дом облупился и потрескался, устрашающе обветшал, и папы не было — ни здесь, ни в каком-нибудь другом месте. Только дом существовал, напоминая ей о том, что она потеряла.
В том-то и дело, что все уже было в ее жизни, было — и потеряно. Было сияющее, сонное, цветное детство, был папа, с блеском его очков и быстрой улыбкой, с конфетами, которые она каждый день находила под подушкой, с уверенностью во всем, что было, есть и будет. Была мама, с ее нежностью, сладкими запахами, шуршащей чистотой. Куда она делась? Как это случилось, что, живя рядом, они с мамой потеряли друг друга? Кто в этом виноват, мама или она, Вета? Так или иначе, они никогда уже не смогут этого переступить. Поздно. Да она и привыкла уже к своему одиночеству. Она сама по себе. И вот уже изменила Роме, и уже простила себе все и все позволила. И совесть ее чиста, не мечется, не трепещет. Почему? Почему у нее такое чувство, словно Рома сам привел ее однажды за руку и сказал: «Не думай обо мне, Вета, зажмурься и плыви. Тебе надо жить». Откуда она взяла эту уверенность? Наверное, из его к ней удивительной, благоговейной любви. За ней она была как за сказочными стенами царского сада — одна, окруженная волшебным воздухом избранности. Были ли бы они счастливы, если бы Рома остался жив, сумела ли бы она оценить его той огромной мерой, которая только и была его истинной ценой? Нет, в этом она сомневалась. Вряд ли. Скорее она стащила бы его с пьедестала, и они встретились бы где-нибудь на полдороге: разочарованный, полуприземленный Рома и снисходительная, оценившая его Вета. И все погибло бы, и все пропало бы, и жизнь их, лишенная высоты, чистоты, доверия, пламени, была бы обыкновенной скучной жизнью. Но чего бы она только не дала, чтобы все это так и случилось, чтобы Рома был жив, чтобы у нее был муж, дети, чтобы не было, не было этого ужаса воспоминаний, мучений совести, упреков себе, чтобы не зияла в самой середине ее существа эта рваная, кровоточащая, незаживающая рана! «Рома! Как мне жить дальше? Мне страшно!»
Читать дальше