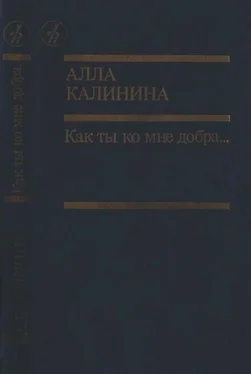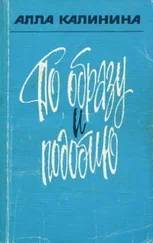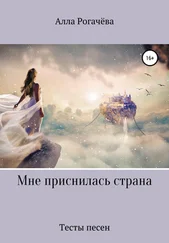Когда приехала «скорая помощь», она сидела возле Марии Николаевны на полу, держала ее ледяные руки в своих и плакала.
— Это ваша мать? — спросил высокий усталый доктор.
— Нет, свекровь, — сказала Вета.
— Да, вам не позавидуешь…
Вета испуганно вздернула плечи.
— При чем здесь я?
— А о ком еще можно разговаривать? — удивился доктор. — Вы же сами видите… А где ее сын? Вообще какие-нибудь родственники есть? Надо бы ее перенести на кровать…
— У нее никого нет, мы одни…
Доктор выпрямился и посмотрел на Вету.
— Ах, вот так? — сказал он задумчиво. — Вообще-то она нетранспортабельна, но в особых случаях… Конечно, мы ничего не теряем, дома она вряд ли долго протянет. Ну, если вы согласны, давайте попробуем.
— Что — попробуем?
— Попробуем довезти ее до больницы…
Вета в страхе, сжав руки у подбородка, смотрела на него. Неужели все кончено? Почему он говорит при Марии Николаевне такие ужасные вещи громко, не стесняясь, как будто она не может услышать его, как будто ее уже нет…
Она смотрела, как они возились у стола, доктор что-то писал и задавал ей бессмысленные вопросы, а второй, фельдшер, открывал ампулы и, подняв шприц к свету, выбрызгивал из него тоненькую струйку лекарства.
— Доктор, а она слышит?
— По-видимому. Если вам надо ей что-нибудь сказать, говорите сейчас, после укола она начнет дремать.
Ах как много Вета хотела, да нет, должна была ей сказать! Как же так вышло, что до сих пор она не выбрала для этого времени? А теперь, что она могла сказать ей теперь? Ей, лежащей на полу среди чужих людей, перед лицом надвинувшейся беззастенчивой смерти? И все-таки должна была. Вета встала на колени возле ее лица, стараясь спиной отгородить ее от чужих, поймала ее взгляд.
— Я с вами, — сказала она, — я все время буду с вами. Я не чужая. Я, наверное, кругом была не права, но я не чужая, я не виновата, что так вышло… Я понимаю, наверное, сейчас не время, сейчас важно только, чтобы вы поправились, но вы обязательно должны знать, что я этого хочу, я ваша… дочь…
«Зачем я это сказала, зачем? Это ложь, это предательство», — металась в ней детская прямота, детская честность, но ведь что-то она должна была сказать! Она чувствовала, понимала, как страшно сейчас свекрови… А ведь это была его мать, Рома был ее частью, а значит, и она, Вета, — тоже. Но Мария Николаевна смотрела на нее так же напряженно и невыразительно, и нельзя было понять, слышит ли она, доходит ли до нее смысл сказанного, а если доходит — прощает ли она ее, простила ли она…
Ах, если бы они поговорили об этом раньше! Раньше! Но ведь тогда казалось — зачем бередить раны, боль была еще так свежа, впереди было еще так много. Но вот предел. Не только для Марии Николаевны, и для нее, Веты, тоже. Она поднялась с колен.
— Вы приготовьте пока одеяло, что-нибудь на голову, и надо еще парочку соседей, помочь снести носилки.
— Я сама! — сказала Вета.
— Ладно уж, «сама»… — Доктор усмехнулся и оглядел ее по-новому, с любопытством и даже некоторой игривостью. «Чего только не увидишь!» — было написано на его лице.
В больницу Вету не пустили, она уехала домой, а утром примчалась снова, и ее снова не пустили. Только к середине дня выяснилось, что пройти к Марии Николаевне можно и даже нужно, поухаживать, покормить, все родственники ходят. Но Мария Николаевна спала, лицо оставалось таким же одутловатым, но было теперь скорее бледным, глаза закрыты, и дыхание с тихим бульканьем вырывалось из мертвой половины рта. Вета села на табурет и сидела долго, но ничего не изменилось. Она чувствовала, что сама засыпает от бессонной ночи накануне, от тревоги, страха, от угнетающего однообразия этого тихого бульканья. И тогда она стала думать о Роме, как он стоял тогда, прислонившись к косяку, и говорил, говорил, говорил. И все, что он говорил, была сплошная глуцость, но она его не остановила, она слушала как завороженная, и от этого именно и произошли все несчастья. Нельзя было идти на поводу у его страхов, нельзя было молчать, ведь она знала, что он не прав, знала. Надо было просто обнять его за шею, прижаться к нему, удержать… И тогда он, может быть, никуда бы не улетел. И Мария Николаевна бы не заболела, и она не сидела бы сейчас здесь… Но им казалось, им казалось, что командировка в Уфу и практика — важнее. Даже Рома счел возможным ограничиться письмом. Что ей так нравилось в этом письме? «Дорогая моя, любимая моя Вета»? И это все? Вместо долгой счастливой жизни? Вместо действия, вместо целого мира — слова? Конечно, он любил ее, разве она не знала этого сама? Как же он мог, как же он мог тогда их оставить, ее и мать? Он был не прав, он был слаб для жизни.
Читать дальше