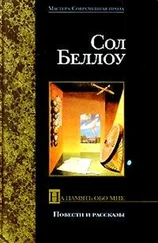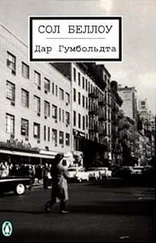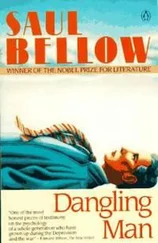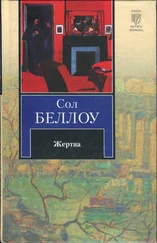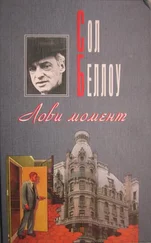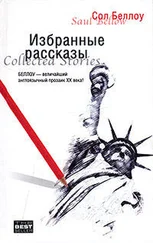Они вступили в новую фазу, чудный или слывущий чудным период жизни на покое — Флорида и все прочее, края, где теплый климат благоприятствует мечтам и где, если суетливость испортила тебя не вконец, ты еще можешь вернуть себе былую радость жизни. Но такого, как нам всем известно, не бывает и быть не может. Что ж, Мотя всерьез пытался стать хорошим американцем. А хороший американец, какое бы обличье ни заставила его принять жизнь, может служить отличной рекламой. В Чикаго Мотя ежедневно ездил в центр — поплавать в своем клубе. Он там слыл колоритным персонажем. И лет десять потешал членов клуба анекдотами. Отличными анекдотами. Я чуть не все их слышал от моего отца; чтобы их понять, надо было знать их жизнь на той, бывшей родине, — Талмуд, Тору, притчи, пословицы. Во многих из них речь шла о делах чуть ли не доисторических, и если, скажем, ты не знал, что в черте оседлости правоверные евреи, управляясь по хозяйству, бубнили себе под нос псалмы, без разъяснений ты ничего не понимал. Мотя хотел — и по праву, — чтобы в нем видели славного, бодрого, преуспевшего в жизни старика, лучшего в городе пекаря, состоятельного, великодушного, славящегося своей порядочностью. Но сверстники его повымирали, а кто, кроме них, прошедших такой же путь, мог оценить, как многого он достиг. Мотя — ему уже было под девяносто — по-прежнему не давал никому прохода, рвался рассказывать смешные истории. Они ему служили взамен подношений. Он повторялся. Маклерам, политикам, юристам, специализировавшимся на исках по травмам, подручным рэкетиров, мастерам на все руки, коммивояжерам и импресарио, которые приходили в клуб тренироваться, он им всем не давал житья. В раздевалке завернутый в простыню Мотя не радовал глаз. Никто не мог взять в толк, о чем он говорит. В его canto [55]слишком явно слышался китайский, прованский прононс. Клуб попросил семью попридержать его дома.
— Сорок лет он у вас член, — сказала Рива.
— Да, но его сверстники умерли. А новые члены к нему не расположились.
Я всегда думал, что бесконечные шутки Моти — это своего рода замена прошений о приеме, ходатайств о защите и что, паясничая в раздевалке, он совершает насилие над своей природой. Помоложе он был вовсе не таким словоохотливым.
В русской бане, когда мы сидели на корточках в парилке, я, тогда еще мальчишка, восхищался Мотей. Нагишом он походил на индейского воина. Курчавый гребень волос стоял поперек его головы. В нем ощущалось природное достоинство. Теперь от гребня волос не осталось и следа. Мотя скукожился, лицо его осунулось. В ту десятилетку жизнерадостности, когда Мотя плавал и сиял — само добродушие — улыбкой, он неизменно радовался мне. Он говорил:
— Мне уже shmonim — девятый десяток, — а я за день двадцать раз проплываю бассейн из конца в конец, — и продолжал: — А этот ты слышал?
— Наверняка нет.
— Слушай сюда. Входит еврей в ресторан. Только слава, что хороший, а так одна грязь.
— Угу.
— Меню нет. Смотрит на запачканную скатерть и заказывает обед. Тычет в пятно и говорит: «А это что? Цимес? Принесите».
— Угу.
— Официант не выписывает чек. Клиент идет прямо к кассирше. Она хватает его за галстук и говорит: «Ты ел цимес». Клиент рыгает, а она говорит: «Ты же еще и редьку ел».
Это уже не анекдот, а основа основ твоей жизни. Когда ты услышишь его раз сто, он становится явлением мифическим, все равно как ворон, тот самый, что залезал в жену и оказывался в просторных палатах. Но как бы там ни было, а теперь анекдотов больше не слышно.
Прежде чем подняться наверх, Рива говорит:
— Я вижу: таки хорошенькую ловушку расставило ФБР вашему брату-законнику — теперь не одну сотню ваших привлекут к уголовной ответственности.
Рива не хочет меня обидеть. Она резвится, в ее словах нет зла — просто она упражняется в остроумии. Она любит потешаться надо мной — ей ясно, что я бросил и юриспруденцию, и музыку, и все, чем прославился (исключительно в кругу семьи). Потом она говорит — и выражается по-прежнему четко:
— Нельзя давать Моте лежать, надо его поднимать, иначе у него в легких скопится жидкость. Врач велел его привязывать.
— Вряд ли ему это по вкусу.
— Бедненький Мотя, он терпеть этого не может. Он уже у нас вырывался. Я ужасно переживаю. И не только я…
Мотя приторочен ремнями к креслу. Они застегнуты за спинкой кресла. Первый мой порыв, наплевав на указания врача, освободить его. Врачи продлевают жизнь, но как Мотя относится к их предписаниям, нам не дано знать. Он делает отрывистый знак — его и кивком не назовешь, — что заметил наш приход, и отворачивается. Унизительно, когда тебя видят в таком состоянии. И тут меня осеняет: ведь не случайно же в письме судье Айлеру я вспомнил, как Танчик на своем креслице молча выпрастывался из пут, полный решимости во что бы то ни стало освободиться.
Читать дальше