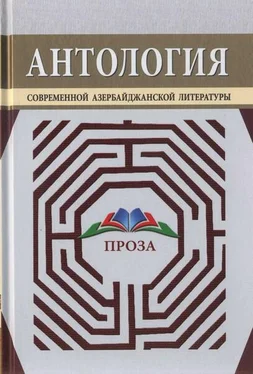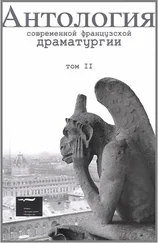— Перейму печали твои, брат, их много… Человек восемь…
Солдат повернулся к товарищу:
— Скажи дежурному, пусть задержит состав. — И побежал к вокзальному зданию.
…Сойдя с поезда, они стали на обочине шоссе.
Старик, сидевший на чемодане, недовольно покачал головой.
— Бестолковая затея… Теперь до вечера жди поезда… — Опершись на чемодан, медленно поднялся.
— Отец, отсюда до Мегри полтора, от силы два часа пути, — бодро отозвался Агали. — Зачем же ждать до вечера? Хоть дрезина, хоть паровоз — на чем угодно доберемся. Или легковушку найду, не разорюсь, прямехонько до ворот и довезет.
Старик неспешно засеменил к гурту репчатого лука на обочине, возле которого разлегся селянин на раскладушке. Старик что-то сказал селянину, тот, не отозвавшись, лениво повернулся на другой бок.
— Гляди-ка, благодать какая, — Агали подошел к отцу. — Точь-в-точь как нашенский лук…
Старик, не ответив, закружил вокруг гурта, носком ботинка перекатывая отставшие луковки. Казалось, с прибывающим светом начавшегося дня из гурта исходило желтое шелестение. Понемногу таяла с лица старика и сходила на нет хмурь.
— Помнишь ли, отец, тот год, когда мы все, и школьники и учителя, собирали урожай, выдергивали лук? И была у нас учительница из пришлых, не знаю, из каких краев, красивая такая… куда потом она уехала?
— Умыкнули ее… в Гамарли…
Агали, подняв руку, остановил голубой «Жигули», наклонившись к дверце, переговорил с водителем и, выпрямившись, весело сказал:
— Едем, отец! Ты садись впереди.
Открыв дверцу, побежал к жене и дочке, поджидавших их возле поклажи.
«Жигули» мчался вдоль Аракса в сторону Мегри. У Агали отлегло от сердца. Опустив руку на плечо отцу, он сказал:
— Вот вернусь, закажу тебе папаху получше прежней.
В ту осень уродился небывалый урожай репчатого лука. Гурты золотисто-желтых луковиц, сложенные на бровках полей, привлекали взоры проезжавших в автобусах и поездах людей, и долго еще отзывался в ушах их струящийся приветный шелест…
Март, 1993 г.
Эльчин (1943)
СУДЬБА КАЩЕЯ
(маленькая повесть)
© Перевод А. Мустафазаде
1
…Затем, только-только заалел лучами горизонт, и на сей раз еще до того, как вступило в свои права утро — было ближе к пяти, — мужчина, еще находясь в полусне, в тревоге, инстинктивно стал ждать отвратительного крика петуха. И на самом деле, через десять-пятнадцать секунд — во сне эти секунды тянулись очень долго — кукареканье матерого петуха переполошило ближние дворы и дома, в том числе и застекленную веранду муллы Зейдуллы.
Это кукареканье столь ранним утром так вывело из себя мужчину, что, ворча, не сдержавшись, он прошелся парой крепких слов по адресу и петуха, и его хозяина.
Правда, мужчина произнес эти слова сквозь зубы, едва слышно, но Хейранса — его жена, как всегда, была чутка, как гусь, она услышала сквернословие и, не поднимая век, все еще сонная, пробормотала:
— И не стыдно тебе? А еще мулла…
Затем отвернулась на бок и снова погрузилась в свой чуткий и сладостный сон.
Не выспавшийся мулла Зейдулла, приподнявшись, сел в постели, потирая черными волосатыми пальцами лоб, подумал в смущении: как же достал его этот петух, если, отнюдь не будучи матерщинником, он произнес подобные слова, причем в присутствии жены… Затем глянул на Хейрансу, что лежала спиной к нему, и нашел утешение в том, что крик петуха не прервал сон жены и хотя бы Хейранса может выспаться досыта. Это ненавистное петушиное кукареканье и в самом деле никак не повлияло на Хейрансу, она видела продолжение того же, что и до крика петуха, сна, и мулла Зейдулла, огорченно потягиваясь, широко, от всей души зевнул.
Уже которое время, особенно в эти знойные, душные летние дни, мулла Зейдулла поистине жил в атмосфере этой напасти: из-за крика треклятой птицы не мог как прежде наслаждаться прелестью предрассветной поры.
В советское время Зейдулла более тридцати лет проработал учителем физкультуры, вышел на пенсию, после развала Советского Союза переквалифицировался в муллы, но в глубине души не был ни физруком, ни муллой — он был поэтом. Не только в том смысле, что создавал стихи, а просто считал себя поэтической натурой, и в этом его убеждении была определенная истина. Всю свою долгую жизнь он просыпался поутру, не под кукареканье соседского петуха — хозяин петуха Зарбала был соседом через забор, — а по собственной воле. Еще лежа в постели, в полудреме вслушивался в щебет птиц, рокот моря, завыванье ветра в ненастные дни — и это были самые любимые минуты повседневной жизни этого ширококостного человека с проседью в бороде и с всегда плаксивым выражением лица.
Читать дальше