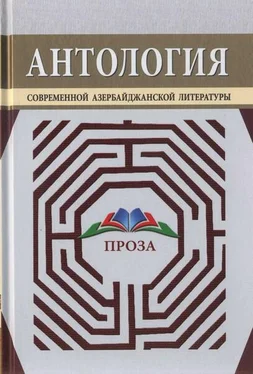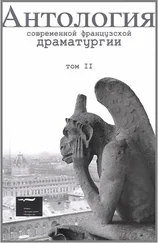Но старик не слушал председателя. Он глядел на светящееся в темноте окно амбулатории и думал о своем.
— Несправедливо ты, Гурбан, о фельдшере судишь…
— Я ведь сказал уже — хватит! — Гурбан и впрямь не на шутку рассердился. — Вот, понимаешь, дался ему этот хромой! Не зови его к себе, и дело с концом! Иди ложись! Спокойной ночи!
— И тебе также. Куда ты теперь направишься?
— Как обычно, проеду, посмотрю… — Гурбан тронул коня. Потом потянул за узду, остановился и, обернувшись, внимательно посмотрел на старика. — Растревожил ты мне душу, Исфендияр. Несешь невесть что! Солдата какого-то выдумал… Знаешь, что: поступай как знаешь, води дружбу с кем хочешь, об одном прошу — не таись от меня!
— Бог с тобой, Гурбан! Чего мне таиться!..
— Ладно, ладно! Иди, ложись, завтра ведь не гулять! Посмотри на себя — больной совсем! И задумываться стал. Вчера вечером иду мимо, гляжу — под деревом сидишь. Я здороваюсь как положено, а ты и ухом не ведешь — задумался. Думать да сокрушаться — пользы мало! Надежду надо иметь! Ведь товарищ Сталин как сказал: будет и на нашей улице праздник!
— Золотые слова, Гурбан, да услышит тебя бог! Только надеждой и живем! А вот не задумываться мне никак невозможно…
— Ладно, Исфендияр, иди домой! Завтра вечером зайду, посидим, потолкуем… С утра-то мне в военкомат. Опять небось повестки лежат. Двадцать четвертый год на учет брать будут. Скоро одни ребятишки в колхозе останутся!
Гурбан уехал. Старик глядел на светящийся огонек папиросы — порывистый ветер то и дело сдувал с нее легкие искорки — и думал, что если бы председатель тоже проводил на войну сыновей, не смог бы он так думать ни о нем, Исфендияре, ни о других…
Снова вспомнился ему давешний солдат. Должно быть, и вправду глаза подвели… Появись в деревне фронтовик, сейчас бы такой переполох поднялся… Двести домов, а горе и радость у всех одни… Солдат! С фронта! Да тут бы и шум, и музыка…
Исфендияр наклонился, провел рукой по росистой траве, приложил ладонь ко лбу… Лоб горел, а спине было холодно, его всего трясло как в лихорадке…
* * *
A-а! Вот оно!.. Он знал, знал… Не обмануло отцовское сердце! Куртка сползла у Исфендияра с плеч, но он не нагнулся, не поднял… Домой! Там, на краю деревни, в его доме, звучит саз…
Сколько лет уже он не бегал! Дыхание вырывалось с хрипом, во рту пересохло, грудь разрывалась от боли… Но Исфендияр все бежал, бежал… Сын вернулся! Это он, Бахман! Сбылся, значит, сон! Не зря он дал зарок, не зря ждал…
Исфендияр добежал до калитки. Перед глазами все плыло, качалось… Огромный темный тополь наклонился ему навстречу, протягивая шумящие ветви; рыжее пламя, вырываясь из самоварной трубы, металось под порывами ветра из стороны в сторону…
Что же это, господи? Словно кинжалом бьет под лопатку! Но Исфендияр не остановился. Струны саза звучали все ближе, ближе… Ничего не видя перед собой, шатаясь, Исфендияр шел к дому…
Значит, вернулся… Пришел его младшенький… Совсем так, как виделось Исфендияру в мечтах. Вошел нежданно-негаданно, расцеловал детей, жену, невестку — соседей решил не поднимать среди ночи, — достал со стены саз, вытащил из футляра, прижал к груди и заиграл, призывая отца…
Качаясь, старик подошел к двери, толкнул ее и перешагнул порог.
Саз висел на стене, высоко, так, чтобы не достали дети… Старшая невестка, склонившись над тазиком, мыла голову одной из девочек. Вихрастые, голопузые близнецы, так похожие на его сыновей в детстве, сидели на тахте, мать крошила хлеб в стоявшие перед ними тарелки с молоком. Все это Исфендияр видел неясно, сквозь туман. В ушах у него все еще звучала музыка… Старик снова взглянул на саз, потом на невесток, на внуков… И вдруг все стихло. Стало темно. Исфендияр упал.
* * *
Открыв глаза, он вначале увидел лицо Хаджи, худое, усталое, сероватая бородка, похожая на комок спутанной шерсти; над маленькими, глубоко запавшими глазами — кустистые серые брови. «До чего же ты некрасив, бедняга!» — невольно подумалось Исфендияру.
Никогда раньше кузнец не видел фельдшера так близко. Может быть, поэтому ему прежде всего и пришла в голову эта мысль. Но, мелькнув в сознании, она сразу исчезла, и Исфендияр вспомнил все: солдата, сошедшего с дрезины, Гурбана с его тяжелым, непонятным разговором, голос Бахмана, раздавшийся вдруг в тишине ночи, и саз, преспокойно висящий на стене…
— Что скажешь, Хаджи? — кузнец невесело улыбнулся. — Сплоховал старый Исфендияр?
Читать дальше