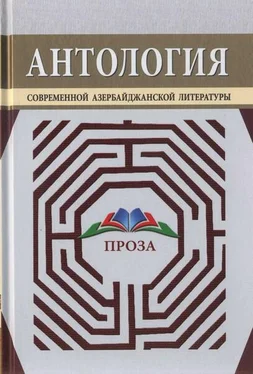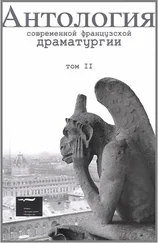…Был прекрасный июньский вечер. Легкий прохладный ветерок тихонько теребил листву. Невестки стелили кровати. Старый Исфендияр сидел под тополем, прикрывавшим своей плотной листвой почти весь широкий, ровный двор; догорал кизяк, зажженный в нескольких местах, едкий дым, расстилаясь под раскидистыми ветвями тополя, прогонял комаров, тучами вившихся над головой Исфендияра. В комнате горела семилинейная лампа, и балконные столбы широкими полосами темнели на фоне окон; вверху, под крышей, сонно посвистывали ласточки. На вершине тополя пощелкивал одинокий аист. Каждый год прилетал он в свое гнездо, и, такой же одинокий, улетал осенью в теплые края…
За долгие годы жизни Исфендияр привык к этим мирным звукам, он даже уже не слышал и не замечал их; грустный, усталый, сидел он на своем обычном месте и, как всегда, думал о сыновьях. Словно живые, стояли они перед его глазами; вот они с пехлеваном — тот обнимает их, прижимает к могучей груди и что-то взволнованно говорит; вот они уезжают — Рахман целует сначала племянников, потом своих дочурок, Бахман — сначала девочек брата, а потом уж своих близнецов.
О сыновьях Исфендияр мог думать бесконечно, он видел их в самых различных местах, за самыми разными занятиями. То они представлялись отцу дома за столом, то в кузнице, у наковальни, то возле колодца: обнаженные до пояса, они поливают друг друга из ведра и хохочут; он даже слышал, как плещется вода…
Последнее время Исфендияр чаще всего вспоминал сыновей стоящими рядом с пехлеваном. Старику почему-то думалось, что если бы прошлой весной пехлеван не увез полюбившихся ему парней в Баку, они не оказались бы мобилизованными в первый же день войны. Не попали бы они в неразбериху летних месяцев сорок первого года, а, кто знает, может быть, от них, как и от других деревенских парней, до сих пор приходили бы весточки…
Конечно, все могло выйти иначе: и пехлеван мог бы не заехать в деревню, и Рахман с Бахманом могли остаться в толпе, а не хвататься за ту проклятую железку — тут уж случай, судьба, от которой не уйдешь, но Исфендияр не хотел, не мог примириться с такой судьбой. Он сидел под старым тополем, касаясь лопатками его жесткой коры, и смотрел на деревню; редкие огоньки ее мерцали сквозь плотные кольца кизячного дыма, далекие поля уже погрузились во мглу…
Тревожно что-то у него последние дни на душе…
К чему бы это? Случится что или известие какое будет? Вот и в деревне стали замечать — не тот стал Исфендияр. Жалеют… Перешептываются за его спиной…
Остался, бедняга, со снохами… Он и глядеть на них не может: совсем с лица спали… Как вечер — в правление идет, а домой явится — во дворе отсиживается, ждет, пока расстелют постель… С горя старик пропадает…
Что ж, они по-своему правы, так оно и есть… Слаб ты стал, Исфендияр!.. Сердце болеть начало — уж куда дальше! Что ж делать-то? Бросить кузню? Отпустят, конечно. Тогда все правление на дыбы поднялось — не хотели, чтобы он опять к наковальне становился. Срамишь, мол, нас перед людьми: где это видано, на седьмом десятке за молот браться! Хотели даже из другой деревни кузнеца звать… Но старик настоял на своем.
— Ничего, послужу еще людям, сила в руках есть, да и голове легче — работа, она отвлекает…
Сказал и пошел открывать дверь кузни. Вот так… Что же все-таки придумать? Нельзя же часами сидеть под старым тополем и глотать кизячный дым!.. С тоски пропадешь! Работать? Стоять всю ночь у наковальни? А силы где взять? Может, сходить к Гурбану, попросить, чтоб написал в часть? А может, поехать в район к военкому Талыбову — пусть сам напишет… Он знает, куда обращаться…
Углубившись в невеселые мысли, старик не заметил, как, припадая на левую ногу, к колодцу подошел человек. Он появился незаметно, почти неразличимый в густом сумраке. Подошел, остановился в нерешительности, молча, поклонился и тихонько присел на край колодца. И только когда он слабым, хрипловатым голосом смущенно произнес: «Добрый вечер!», старик заметил гостя.
— Ты, Хаджи? Давно сидишь? Иди сюда!
— Да нет, дядя Исфендияр, я так, на минутку… Скучно чего-то стало. Думал, может, играете — послушать… Спокойной ночи, дядя Исфендияр… Я пойду…
— Сыграл бы я тебе, сынок, да не могу… Третий день как зарок дал. Пока Бахман не вернется… Ты уж прости…
Хаджи ушел. Ах, как нехорошо получилось! Как бы не обиделся… Ведь первый раз вот так пришел, сам, а это — хороший признак. Очень хороший. Значит, затягивается его рана. А может, и вовсе зажила… Окликнуть разве? Взять за руку: идем, дескать, посидим, чаю попьем?
Читать дальше