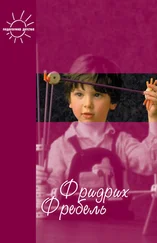* * *
Он проснулся, открыл глаза, но кругом стоял густой мрак, и некоторое время он не понимал, где находится. Потом нащупал слежавшийся матрас, грубые жерди нар… Спертый, сырой, затхлый воздух тяжелым дерном давил грудь, и, если б не посапывание мужчин, можно было подумать, что захоронен живым. До слуха иногда доносился странный звук, напоминающий стон больного, который внезапно прерывался и снова повторялся; казалось, что кто-то скрипит зубами. А где-то далеко неугомонно шумит и бушует море, поднимая волну за волной.
Он лежит с открытыми глазами, глядя в кромешную темень, и вдруг понимает, что это беснуется в лесу буря и не больной стонет, а над головой рвутся корни сосен. Он не остерегаясь, может, даже слишком шумно, скатывается с нар, чувствует босыми ногами холодный и сырой пол, ощупью пробирается к двери, но на полпути слышит голос Шиповника:
— Ты куда?
— Свежего воздуха впущу глоток, — говорит он, не останавливаясь, не поворачивая головы, словно ожидая выстрела в спину. Почему-то все время преследует страх получить в спину пулю.
— Здесь и впрямь задохнуться можно, — соглашается Шиповник.
В открытую дверь врывается волна освежающего воздуха и шум разыгравшейся бури. Стасис всей грудью вдыхает свежий воздух, смотрит через дверной проем в ночь, видит в лунном свете летящие растрепанные, будто разорванные верхушками деревьев, тучи, сгибаемые ветром сосны, видит одинокий куст, можжевельника, и пронзает мысль: Клен стоит. Никак не выходит он из головы. Трудно придумать что-нибудь абсурднее. Все закономерно. За все надо платить высшую цену. Не только за подвиг, но и за человеческую слабость. Цена та же, но непреходящие ценности разные… Именно она, непреходящая ценность поступка человека, все решает, — как ни подходи, какие аргументы ни приводи, лишь она — единственное мерило, позволяющее познать силу и слабость человека. Не дай бог такой жизни и такого конца, какой постиг Клена. Если правда, что уже при рождении мы отмечены роком, то для Клена было бы лучше вообще не родиться.
— Чего не спишь? — раздается глуховатый голос Шиповника.
— Не хочется.
— Почему?
— Откровенно?
— Конечно, откровенно.
— О Клене думаю… Ну, и о домашних все вспоминаю.
— Понятно. О домашних все мы думаем… А почему Клен тебе покоя не дает?
— Не понимаю, на что он мог надеяться.
Шиповник молчит, наверно, думает. Не хочет просто так ерунду пороть. Клен всем разбередил мозги, нелегкую загадал загадку. Хочешь или нет, но ищешь ответ на вопрос — как жить дальше?
— Оставь дверь приоткрытой, — говорит Шиповник и приглашает: — Если не хочешь спать, иди сюда, поговорим.
Стасис смотрит на плывущие в лунном свете клочья облаков, на сосны, сгибающиеся под порывами ветра, на одинокий куст можжевельника, потом снова ощупью пробирается по узкому проходу к своим нарам.
— Так что ты о нем думаешь?
— Сказал уже… Не понимаю, на что он мог надеяться.
— Каждый человек на что-то надеется. Такова его природа. Мне кажется, и Клен до последней минуты не терял надежды.
— Но, отправляясь сдаваться, на что он мог надеяться?
— Думаю, здесь усталость виновата. С шестнадцати лет он гнил в этом проклятом болоте… Весной сорок первого записался в комсомольцы, а летом наши его к стенке поставили. Не уложили вместе с евреями только потому, что согласился взять винтовку и их расстрелять. Всю немецкую пору вроде пса бездомного: куда посылали со смертью — туда и шел… А когда пришли русские, ничего другого не оставалось, как в лес. Три года здесь промыкался. Не шутка!
Стасис подумал, что он редко слышал голос Клена. Все они были неразговорчивы, но Клену словно кто-то рот зашил. Перед смертью собирался было что-то сказать, но что — теперь уж никто не узнает.
— Устал он, смертельно устал, — вздохнул Шиповник, и можно было подумать, что они оказали огромную услугу Клену, избавив его от этой смертельной усталости.
— Наверно, верить перестал, — сказал Стасис, понимая, что ходит над пропастью.
— Во что верить? — насторожился Шиповник.
— В будущее.
Шиповник долго не отвечал, словно заснул. Стасис снова услышал, как рвутся в земле корни сосен, как завывает в вентиляционной трубе буря.
— Усталый человек становится равнодушным ко всему, даже к собственной судьбе… С такими далеко не уйдешь. А вера в будущее — точка опоры для всех нас.
— Кто знает, когда что будет, — сказал Стасис.
— Этим летом… судя по радио.
Читать дальше