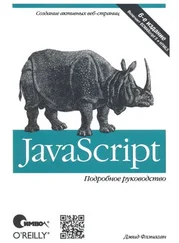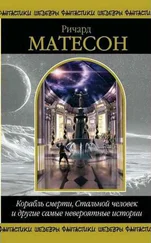Как-то вечером, спустя восемь месяцев после смерти Джеммы, когда они мыли посуду после ужина, он обратился к ней с такими словами:
– Кута, я тут подумал и решил: наверное, будет лучше, если я уйду.
Кута Хо равнодушно улыбнулась, как будто он предупредил ее о чем-то будничном – что собирается сходить в соседний магазин за молоком.
– Прекрасно, – сказала она, – замечательно.
И снова улыбнулась, словно все это было ей совершенно безразлично. Когда же Аляж почувствовал, что совсем не злится на нее, а лишь испытывает некое странное, отстраненное, неясное любопытство, он понял, что все кончено. Они продолжали мыть посуду, а вслед за тем Аляж занялся куда более основательной работой, непривычной для себя, – прибрал в кухне. Потом они пошли спать – вместе. Он взял Куту за руку, но она высвободила ее и положила ему на грудь. На другое утро, когда он проснулся, Кута Хо уже не спала. Он задержался в спальне – перебирал вещи, решая, что взять с собой, а что выбросить. Ушел он незадолго до полудня, робко и будто рассеянно поцеловав Куту Хо в губы у парадной калитки, словно уходил на работу, как обычно.
Аляж подался так далеко, как только мог. Он отправился в Дарвин – играть за тамошний футбольный клуб. Следующие три года он каждое лето – в туристический сезон – возвращался в Тасманию и работал лоцманом на реке Франклин. Потом, когда ему исполнилось двадцать шесть, он бросил футбол в Дарвине и лоцманство в Тасмании и перебрался на восточное побережье материка, где перебивался случайными заработками: работал на фермах – на уборочных машинах, в винных магазинах, на стройках. В Тасманию он не возвращался целых десять лет.
До этого дня.
И вот я снова вижу его – там, где кончается река слез: он стоит посреди пересохшего каменистого речного русла, отрывает глаза от бездонного водоема памяти, переводит взор на фасад ее дома, который когда-то был и его домом, и раздумывает: вспомнит ли она те далекие времена и стоит ли стучаться или нет?
И еще раздумывает он: а захочет ли она меня видеть?
Вслед за тем он поворачивается и начинает продираться обратно через валуны, которыми усеяно пересохшее твердое русло реки.
«Мысль – штука опасная. Это, черт возьми, каждый знает, – говаривала Мария Магдалена Свево. – Мысли целое столетие пожирали людей, которые вынашивали их, подпитывали». Что ж, она права: мысль и впрямь – штука опасная. Я знал это еще до того, как меня засосало в эту горловину, где прямо надо мной бурлит река. По мере сил я стараюсь отбросить мысли прочь и ни о чем не думать. Просто это слишком опасно, а я, как бы то ни было, боюсь. Я имею в виду, что даже не смею подумать о своем горе – смерти Джеммы. Потому что это – мысль. Верно? Горе – та же мысль. Конечно, это ужасно, когда кто-то умирает, но факт есть факт: умер – и тебя больше нет, и все. Точка! Что я чувствую после смерти Джеммы? – часто спрашивали меня. И я отвечал как есть: ничего. Ничего. Но желание – штука не менее опасная. Но я-то не знал. И мое желание было скрыто во мне так глубоко, что, когда позвонил Вонючка Хряк, я даже не понял, что он за меня уже все решил, так, что я и подумать ни о чем не успел.
Даже по телефону было совершенно ясно, что Вонючка Хряк юлит. Даже тогда я мог сказать, что не нужно мне никакой работы. Я не хочу сказать, что он первый завел об этом разговор. Я мог бы сказать, что у него не было ни малейшего желания со мной болтать. Но я мог бы также сказать, что у него не было выбора. И мне показалось, что дела у Вонючки Хряка совсем разладились, раз ему понадобился я, и что хотя он был нужен мне не меньше, я ни словом не смел намекнуть Вонючке Хряку, как отчаянно нуждаюсь в работе.
– Слыхал, ты вернулся, вот я и решил звякнуть тебе, давай встретимся и обмозгуем твои дела, – сказал Вонючка Хряк.
И я отправился в его контору. В то утро я чувствовал себя хуже обычного: меня бросало то в жар, то в холод – наверное, я физически, каждой клеткой своего тела предчувствовал роковую неизбежность, уготованную мне предстоящей встречей.
И вот я вижу, как Аляж сидит за обшарпанным столом Вонючки Хряка – напротив него, стараясь сохранять спокойствие: ведь Аляж догадывается, что у Вонючки Хряка на уме. Перед встречей Аляж собрался с духом, решив вести себя с Вонючкой Хряком поувереннее, а не как обычно – спокойно и уважительно. Для храбрости он по дороге пропустил пару стаканчиков рома, и теперь, как ни удивительно, чувствует не согревающее действие напитка, а остужающее: у него свело холодом не только горло, но и живот. Несмотря на всю решимость, Аляжа бьет дрожь, и не только из-за рома, но и от тошнотворного ощущения холода, потому что Аляж хочет сплавиться по реке, но боится, потому что он хочет посмотреть Вонючке Хряку в лицо и сказать, что он действительно о нем думает, но боится: ведь за Вонючкой Хряком не заржавеет. В нервном возбуждении Аляж начинает дробно постукивать ногой по полу, а руки у него так трясутся, что ему приходится сунуть их в карманы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу