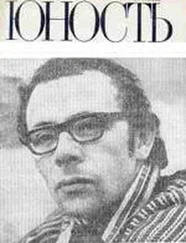Рассказ кончался печально; старик вздыхал, кряхтел и говорил, что «скоро, однако, умирать пора», беспокоился о том, кому оставит свое бригадирское место, и тонкий вой собаки как бы уже оплакивал его.
Материал был послан с сопроводительной бумагой в Москву и вскоре прозвучал в эфире. Затем Москва сообщила, что радиорассказ Кротова, помимо гонорара, отмечен солидной комитетской премией. Я обрадовался и встревожился. С одной стороны, подтверждались мои надежды и риск оказался ненапрасным; с другой — возникали опасения, что у Кротова закружится голова от первого успеха.
Он воспринял известие о премии странно: что-то прикинул в уме и хладнокровно сказал, что этих денег хватит на новое пальто Кате. И все. Телеграмму из комитета он сунул в карман, а несколько дней спустя ее принесла мне уборщица, найдя в урне с бумагами. Я вызвал Кротова и раздраженно отчитал его. Это пижонство, внушал я, мальчишество — бросать такие документы в корзины для бумаг. Он пожал плечами: зачем она? Я объяснил, что это своего рода гарантия на черный день, подтверждение его журналистской квалификации. Он опять пожал плечами. Раз так, сказал я, он ее больше не получит. И сунул телеграмму в стол.
С Кротовым что-то происходило. Да и Катя в последние дни ходила подавленная. Целыми днями она почти безвыходно сидела в фонотеке, и машинка стучала, как дятел.
В начале ноября на мое имя пришло письмо из Москвы. Только вскрыв его и прочитав первые строки, я сообразил, что пишет мать Кати.
«Уважаемый Борис Антонович!
У Вас с августа работает моя дочь Екатерина Наумова (сейчас по паспорту она Кротова). Из ее писем я знаю, что Вы приняли большое участие в устройстве Катиной судьбы. Я думаю. Вы понимаете (у Вас, вероятно, тоже есть дети) необходимость для Кати высшего образования. Поэтому Вы поймете мое резко отрицательное отношение к необдуманному и раннему замужеству моей дочери. Не стоит от Вас скрывать, что ее так называемый муж Сергей Кротов как личность мне глубоко антипатичен. Это в высшей степени, как Вы могли уже, наверно, убедиться, легкомысленный молодой человек. Он не в состоянии устроить свою жизнь, не говоря уже о жизни Екатерины. Ее замужество — результат детского увлечения. А это ни к чему хорошему не может привести.
Я убедительно прошу Вас, Борис Антонович, помочь мне. От расстройства я заболела. Я врач и знаю, что моя болезнь серьезна. Ради бога, уважаемый Борис Антонович! Умоляю Вас, приложите весь свой авторитет, все свое влияние, убедите Екатерину возвратиться в Москву. Иначе ее жизнь будет загублена.
С глубоким уважением НАУМОВА».
Приписка меня рассердила. Она была такова: «Готова быть Вам полезна во всем».
Письмо я спрятал в ящик своего стола. Я не знал, чем могу помочь матери Кати.
Из дневника Кротова
«Родственница с баулами и авоськами вернулась с юга.
Наш необитаемый остров осквернен.
Что нам оставлено? Кафе, многолюдные улицы, скамейки в парках, темные кинозалы. Всюду — глаза, и уши. Столица следит за нами. Мы мятущиеся, бесприютные единицы народонаселения.
Каждый вечер мы прощаемся в подъезде Катиного дома. Мы стерли все меловые надписи со стен. Наш лексикон ужался в одно слово: «люблю».
До экзаменов пятнадцать дней.
Десять дней.
— Мы провалимся, Сережа.
— Ерунда!
— Что нам делать?
— Действовать!
— Ты любишь меня?
— Люблю.
— Ты что-нибудь придумаешь?
— Придумаю.
Не узнаю себя. Не я ли издевался над Эмилем Чижом, бредившим на школьной скамье Валей Голубенко, девочкой с такими кудрявыми волосами, как дети рисуют дым? Не я ли произносил монологи в компаниях, называя любовь старомодным чувством?
«В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал назубок, шатался по городу и репетировал». Пастернак писал про меня.
Однажды Катя не явилась на свидание. Я ждал. Я просмотрел кипу газет, выпил два стакана газировки, в тоске сожрал фруктовое мороженое.
Двухкопеечная монета юркнула в щель телефона-автомата, как зверек в нору.
— Алё!— возник приятный женский голос.
— Здравствуйте. Можно Катю?
— Кто ее спрашивает?
— Сергей.
— Катерины нет дома и в ближайшие дни ее не будет. Она уехала на дачу. Прошу вас больше не звонить.
Гудки отбоя — это невысказанные слова проклятия. Классический прием отваживания! Трубка в моей руке, как сломанный посох перехожего калики.
Вера Александровна Наумова взывает к знакомству. Пора, пора! Рога трубят! Меня бросило в жар.
Читать дальше