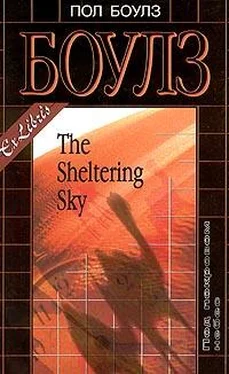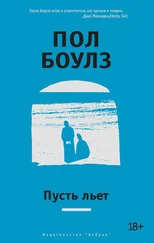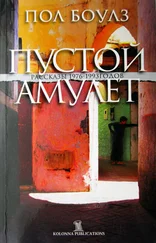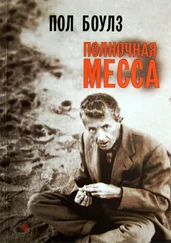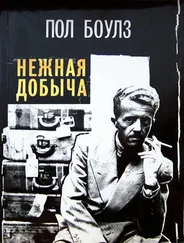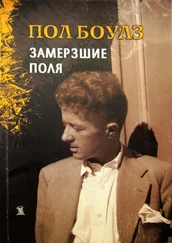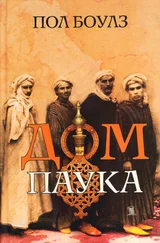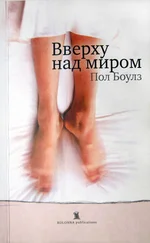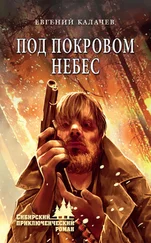Серьезно пострадала и линия Кит. У Бертолуччи ее встреча с караваном кочевников и последующие перипетии решены в жанре чуть ли не святочной сказки с внезапной неблагополучной развязкой, тогда как в романе она сталкивается с кошмаром насилия, заточения, истязаний, коварства, с беспощадной логикой общинно-родового уклада. В результате, акценты по сравнению с книгой оказываются смещены, и Африка с ее величественными пейзажами и туземной архаикой однозначно репрезентирует на экране «вечность», «гармонию», «красоту» в противовес болезненно-нежным, рефлектирующим чужестранцам, с их суетностью, ущербностью и бессилием приобщиться к «истокам». Подобного рода некритическое превознесение всего «варварского», «первозданного», «не затронутого прогрессом» как некой «исконной мудрости», утраченной или недоступной Западу, Боулзу было совершенно несвойственно, он куда более трезво смотрел на вещи — даже тогда, когда, подпав под чары «магического места», буквально грезил Марокко.
С Марокко, а точнее Танжером, связана целая мифология «прекрасной эпохи», в которой Боулз предстает изгнанником, отшельником в экзотическом антураже, исследователем «измененных состояний сознания», предтечей и вдохновителем битников, обитателем «Интерзоны», прославленной Берроузом, центром притяжения артистического — в большинстве своем гомосексуального — сообщества. Все это не совсем так. Однако прежде чем обсуждать столь деликатную материю, как ореол мифа, окружающий имя писателя, необходимо поведать достоверные факты и наметить хотя бы общую канву его жизни. Но и это, опять-таки, сделать нелегко. Боулз был человеком замкнутым, не склонным к откровенностям, тщательно противился любым попыткам проникнуть за фасад подчеркнутой вежливости и никогда, в отличие от тех же Берроуза или Аллена Гинзберга, не делал из своей гомосексуальности «литературного факта». Вышедшая в 1972 году автобиография Боулза, «Without Stopping», что можно перевести как «Не останавливаясь» или «Проездом», практически умалчивает о личной жизни, равно как и воздерживается от комментариев к собственному творчеству, что дало повод Берроузу иронически переиначить ее название на «Without Telling», «Не пробалтываясь».
Существует, правда, прекрасная биография, написанная Кристофером Сойером-Лаучанно [124] Christopher Sawyer-Laucanno. An Invisible Spectator. Grove Press. NY, 1989
, с красноречивым эпиграфом из письма Боулза автору: «Я хотел бы присутствовать на клубной встрече любителей всего японского. Возможно, не столько присутствовать, сколько быть невидимым зрителем». Биография так и называется, «Невидимый Зритель» («Зритель-невидимка»). Но и ссылаясь на нее, следует быть острожным. Во-первых, в частных беседах Боулз сообщал лишь то, что хотел — или мог — сообщить, или что хотел — или мог — услышать его собеседник. Последний и сам дает это понять в предисловии, рассказывая, на каких условиях семидесятилетний писатель согласился с ним в итоге сотрудничать. «Фигуры умолчания» лишь отчасти восполняют воспоминания, письма и дневниковые записи «близко» знавших его — лиц заинтересованных, знаменитых и имевших свои резоны быть не всегда объективными, тем более когда речь идет о событиях многолетней давности. (Среди них Эдуард Родити, Гертруда Стайн, Аарон Копленд, Вирджил Томпсон, Теннесси Уильямс, Трумэн Капоте, Гор Видал, наконец, жена, Джейн Боулз, также незаурядная писательница; наделенная поразительным даром саморазрушения, она умерла очень рано, в 56 лет, но еще раньше утратила самое главное — способность писать; их связывали с Полом странные, мягко говоря, для супружеской пары отношения, косвенным образом отразившиеся в романе «Под покровом небес» — отношения мучительного соперничества, открытой вражды, невозможности жить ни вместе, ни порознь, и в то же время удивительной преданности друг другу.) А во-вторых, что гораздо существенней, разве сам выбор «значимых» событий и выстраивание их в хронологической последовательности не являются уже определенной интерпретацией? Разве под видом «хронологического подхода», принимаемого как нечто само собой разумеющееся, не скрывается глубоко запрятанное беспокойство, подозрение, что это единственный способ придать видимость понимания тому, что в действительности от понимания ускользает? Почему вообще нас так интересует «жизнь великих людей» во всех ее мельчайших подробностях, почему мы не можем ограничиться «собственно» творчеством? Не потому ли, что это творчество выбивает твердую почву у нас из-под ног, «оголяет нам плоть, сдирая кожу», и тогда мы хватаемся за привычный мир исторических дат, семейной хроники, обстоятельств рождения, детских травм, «окружения», «влияния», учителей, любовниц и т. д., ища в них след, причину, человеческое объяснение того, как, откуда произошло то, что взывает в нас к нечеловеческому? Так что же, «объяснение» нужно нам для того, чтобы заглушить в себе этот зов? И да, и нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу