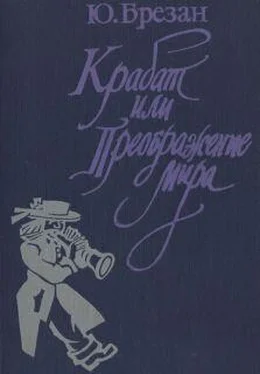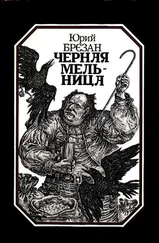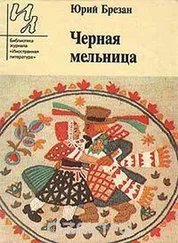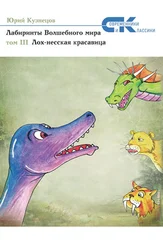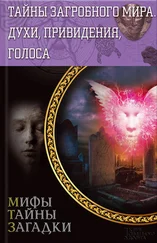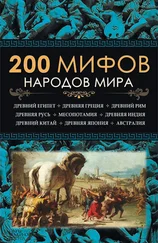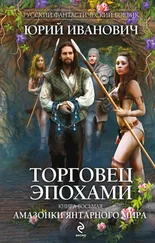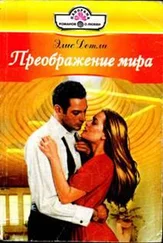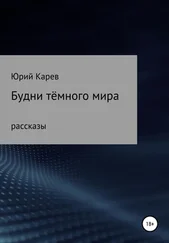Обращение к фольклору, связь с народной фольклорной традицией - в наши дни не такое уж частое явление в литературах Европы, в частности в литературе ГДР. Но в многонациональной литературе Советского Союза обращение к фольклору - явление не только широко распространенное, но и закономерное. Первозданное поэтическое мироощущение, присущее народному творчеству, для младописьменных литератур нашей страны - совсем недавнее и еще живое прошлое, и оно, естественно, обогащает художественное мироощущение сегодняшнего дня, помогает глубинному и всестороннему познанию действительности.
Не менее уверенно входит фольклорная поэтика и в те национальные литературы, где лишь сравнительно недавно укрепились основы "широкоформатной" повествовательной прозы. Об этом свидетельствует, например, творчество Чингиза Айтматова, Гранта Матевосяна и многих других.
История западной литературы начала века знает немало примеров иронического, нарочито наивного, я бы сказала, этакого снисходительного использования мотивов и героев национального и чужеземного фольклора.
Юрий Брезан связан в своем творчестве с совсем другой, романтико-героической традицией восприятия народного творчества. И не случайно, начиная разговор о герое его последнего романа - Крабате, - тут же вспоминаешь образ бессмертного героя Фландрии - Тиля Уленшпигеля. Конечно, Юрий Брезан, как и Шарль де Костер, "переосмыслил" образ народных сказаний, дал ему во многом другую "биографию" и придал его решениям и поступкам целенаправленность и сосредоточенную силу, какими его фольклорный прообраз не обладал.
К теме "Крабат", как она звучит в его последнем романе, Юрий Брезан пришел не сразу. Первым подступом к ней был перевод сорбского сборника сказаний о Крабате, который Брезан издал в 1955 году. Второй этап - повесть "Черная мельница" - книга, которую лишь формально можно числить по ведомству детской литературы. На деле же это книга и для детей и для взрослых, живая, занимательная и полная глубокого смысла,
Однажды с неба упал камень и раскололся - начинает свое повествование Брезан, - из осколков вышел Крабат и пошел по земле; когда-нибудь другой камень вознесется на небо и в нем будет Крабат. Но в промежутке Крабат-человек станет делать все то, что должен делать человек.
А знаем ли мы, что должен делать человек?
Наверное, он должен дать имя своему "откуда" и "куда". И взять с собой первое, и всегда видеть второе.
Ребенок, естественно, будет с увлечением читать сказку о том, как храбрый Крабат, защитник обездоленных, боролся со злым мельником из "Черной мельницы", который ежегодно в определенный день на семижды семь часов оборачивается волком, прячет у себя ларь с семью замками, где лежат семь книг мудрости. За этой сказочной символикой, за сложной цепью намеков и ассоциаций взрослый осознает общий смысл книги (ребенок впитывает его бессознательно), заключающийся в том, что самоосвобождение человека достигается только в борьбе за всеобщее освобождение и борьба за свободу включает в себя и борьбу за право на знание - на семь книг мудрости.
Эта тема борьбы за народное, а тем самым и свое счастье и свободу, по справедливому мнению критики ГДР, вводила в повествование о Крабате фаустовскую тему, которая годы спустя со всей силой прозвучит в "итоговом" романе о Крабате.
Мотив захватчика - "потенциального" волка, оборотня, который в дни творения обвел вокруг пальца самого господа бога, присвоив все лучшее из созданного, - появляется в чудесной истории "Конь и пес, корова и кошка", рассказанной Брезану, когда он был еще ребенком, его дедом, сорбским крестьянином.
Роман "Крабат, или Преображение мира" стоит в ряду тех произведений социалистического реализма, авторы которых делали своим оружием и условные формы изображения, гротеск, гиперболические обобщения, сложную образность.
Прежде всего, когда происходит действие романа? В дни сотворения мира библейским богом? Или в годы Тридцатилетней войны? Наполеоновских войн? Или в наши дни, точно в 1973 году?
Ответить на эти вопросы не так-то просто. Все экскурсы в прошлое - историческое и "сказочное" - отнюдь не ретроспекция. События прошлого и настоящего, дела и приключения героев не то чтобы происходят одновременно, по порой как бы наплывают одно на другое. Так, вечный спутники друг Крабата - трубач и мельник Якуб Кушк (добрый мельник!) в 1908 году попал под суд, потому что ревом своей трубы напугал лошадь императора Вильгельма Второго. Впрочем, может быть, это была не лошадь Вильгельма, а белый конь императора Наполеона? И судья, слушая рассказ об этом происшествии, вдруг чувствует, что с ним творится что-то странное. Он не знает, в какой он действительности - в прошлом, в 1908, 1813 году, или в настоящем. Действительности наплывают одна на другую, смешиваются. Так бывает, говорит автор, когда щука-охотница нечаянно собьет кувшинку и опавшие лепестки то сближаются, то отдаляются друг от друга, а иногда прячутся друг под другом, становясь как бы одним лепестком.
Читать дальше