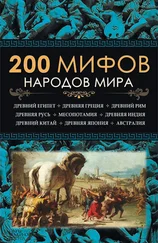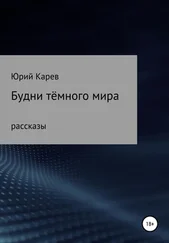Мне пришла в голову мысль, что в этих и других похожих событиях его жизни следует искать причину того, почему он с такой непреклонной решимостью, которую не могли поколебать никакие аргументы, отвергал мои исследования. Я решил при случае поговорить с ним об этом. Его отрицательное отношение никоим образом не влияло на меня, но он был самым чистым человеком из всех окружавших меня людей, и мне хотелось обсудить с ним проблемы, которые возникнут, если я или кто-нибудь другой достигнет цели. Он упорно настаивал на том, что ответственность, которая лежит на биологах, требует, чтобы они прекратили генетические исследования. А разве это не означало для нас самоубийство, пока существовал Лоренцо Чебалло, вернее, пока существовали такие, как Чебалло!
Едва речь заходила об этом, Кунингас сразу становился резким. Дело не в плохом или хорошем характере человека, говорил он, а в том, что существует определенный общественный строй, при котором из любого достижения человеческого разума извлекается прибыль, и в том, что власть имущие могут использовать его во зло. Как только человечество освободится от этого, оно выбросит ваши исследования вместе с бомбой на свалку истории. Когда мы проходили мимо палаццо Питти, нас снова поразили гармоничные пропорции прекрасного здания - за день до этого мы внимательно его осмотрели, - и вдруг я стал постигать смысл многих наших парадных построек, потому что понял купца по имени Лука Питти, который непременно хотел сделать свой дворец самым красивым и роскошным во Флоренции, где господствовали Медичи: как вызов или как предвосхищение триумфа буржуа над своим господином-князем.
Мы вошли во внутренний двор палаццо - сад Боболи, и там - наступил вечер, и в саду уже горели свечи - я услышал концерт, теперь я вспоминаю, что это была "Le Sacre du Printemps" ("Весна священная", балет И. Стравинского), и балетная труппа танцевала перед маленьким египетским обелиском. Музыка и танец глубоко меня взволновали, я был захвачен вихрем чувств, вызванных разными, так сказать непараллельными, впечатлениями, которые воспринимались зрением и слухом. Эта музыка ассоциировалась в моем сознании с необузданным и воинственным Лукой Питти (наверное, он не был таким на самом деле) и одновременно с событиями, происшедшими в Петербурге в 1905 году, с восстанием пробудившихся угнетенных масс и - без всякого перехода - с эпизодом, о котором я часто слышал в детстве, о нем рассказывали просто и скупо, но теперь я увидел эту сцену так ясно, как будто пережил ее сам: два солдата ночью в рукопашной схватке в воронке от снаряда едва не убили друг друга - это мой отец и Николаус Холька; то, что они были одеты в одинаковую форму и родом из одной деревни, не имеет особого значения, лишь доводит абсурдность сцены до предела. В связи с этим эпизодом возникает в моем воображении маленький золотой крестик матери Артура Кунингаса: жопа кладет крестик в волосатую алчную лапу, а в ней уже лежит мертвый человек - его убили или заморили голодом.
Артур Кунингас нагнулся ко мне и зашептал, он был, как и я, взволнован: "Вы ищете для человека пути бегства из его человеческого состояния. Ваш путь ведет в тупик, он кончается пропастью, в которую человечество свалится и погибнет. Выживут мутанты, похожие на людей, здоровые, сильные, крепкие, умные - и еще бог знает какие, - но они будут необратимо возвращены в звериное состояние. Без возможности самоусовершенствоваться".
Я не впервые слышал от него подобные мысли и промолчал, ожидая, что сейчас он, как обычно, процитирует "Фауста", скажет, что лишь тот достоин званья человека, кто жил, трудясь, стремясь весь век, а он сказал: "Вы думаете, что вы Фауст. А на самом деле вы Мефистофель. И в этом пари вы проиграете самого себя".
Я слышал его слова, но в тот момент был не в состоянии вникать в их смысл, меня все сильнее захватывало то, что я видел и слышал, - стремление хореографа, режиссера или кого бы там ни было навязать мне с помощью танца иные ощущения, чем те, которые пробуждала во мне музыка.
Артисты почти обнажены. Белая кожа девушек отражает красный свет, который отбрасывают три костра, горящих по краям лужайки. Девушки все еще сидят на ветках ели и качаются; мужчины, разделившись за кострами на три группы, медленно, как бы в нерешительности приближаются. На их пути возникает невидимая преграда, и, соединившись в одну группу, они отходят в центр освещенного треугольника - кажется, будто они совещаются. Девушки спрыгивают с дерева и образуют хоровод, но это не круг, а тоже треугольник, в центре которого возвышается египетский обелиск. Внезапно хоровод распадается, девушки разбиваются на пары, лишь у одной нет партнерши, она, танцуя, ищет кого-то и приближается к обелиску - столбу. Вот она дотронулась до него, в страхе отпрянула, но другие девушки, все еще обнимающие друг друга, теснят ее к столбу. В такой же по форме столб сгруппировались танцоры, как тараном, пробивают они невидимую преграду, отделяющую их от девушек. Преграда разбивается, и столб врезается в дымящееся облако девических тел.
Читать дальше