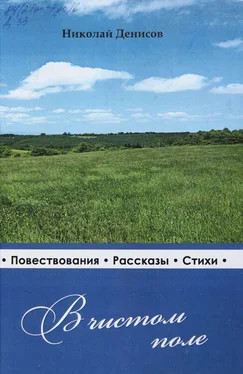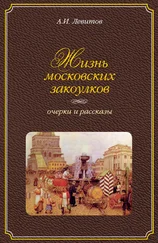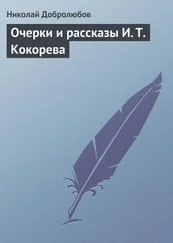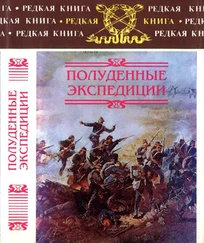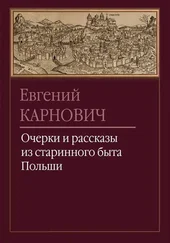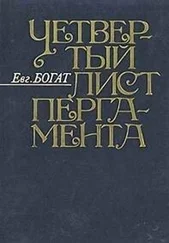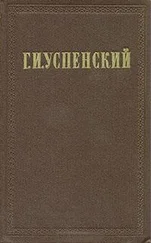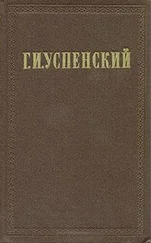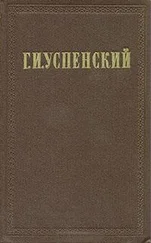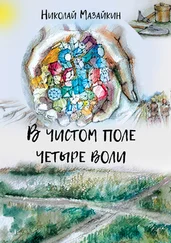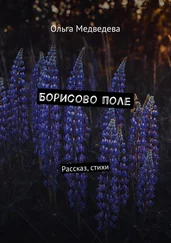Рубеж, граница – место не для шалостей,
Для Божьей битвы голь степи досталось нам,
Где вся твердыня – два иль три пенька,
С десяток бань: теперь, как доты, значатся;
Пяток портков с лампасами – казачество,
Но – руки прочь! – потомки Ермака!
Еще спираль-бруно, стена форпостная:
Заставы твердь в погранселе Зарослое,
И водоем – добавочный форпост:
С гагарьим писком сумрачная ляжина.
И погранцов наряд закамуфляженный,
Упертый рогом в бывший сенокос.
«Где стол был яств…», –
порушено, повыжжено,
Скелеты ферм смердят навозной жижею.
И, как реликт, непьяный тракторист.
Фашизм пырея, глум чертополоховый,
Да сопредельный, с торбой, шут гороховый,
На местной фене – «злой контрабандист».
И весь базар!
Окину даль закатную –
Из-под руки иль в линзы восьмикратные:
Ишим-река…Таможня… Пыль веков…
А это, тьфу, не Чичикова рожа ли?
Шкуряет хмырь проезжего-прохожего,
Приспел как раз – кильватер мертвяков!
Гробы банкиров, сытые банкнотами,
В одном рука торчит с протестной нотою,
Другой – семейный, с креном на корму.
Пошло безгробье – тоже отбазарили! –
Орлы Кавказа, хитники Хазарии…
Челночных баб вот жалко. Ни к чему.
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.
Николай Гумилев
Оранжевое утро. Заревой час. Вдали, над лесом, шильца незримых лучей солнца беспокоят небесный свод. Зачинается осенний день. Небо роняет отсветы прохладной зари на гладь озерной, пахнущей камышом и тиной, воды. В дальней курье голос гагары- кавыки. Стволы отцовского ружья холодят ладонь. И парнишка, замерев от восторга самостоятельного охотничьего утра, осторожно отводит рукой камышинку, мешающую обзору. Он в своем, подзабытом нами, оранжевом мире.
В вышине небес кричат пролетные северные гуси.
На дальнем от курьи «стекле» озера опустилась стайка чирков. Возле берегового камыша на отцовский садок с карасями, плавно махая крылами, приседает красноносый мартын. У мартына задача добыть зазевавшегося, всплывшего к поверхности воды, карася. Но рыба еще таится на дне садка. Вот пригреет солнышко, взыграет! Того и ждет мартын, хищно поводя красным горбатым носом.
Поднимая дорожную пыль, гремит в улице телега. Кто-то, знать, пчеловод, с утра поехал в осинник за жердями. Пора поправлять огородные прясла после недавней копки картошки.
Человек радуется своим неспешным утренним хлопотам.
Слыхать, как на мостки пришла соседка купать курицу-парунью. Курица подняла крик, а соседка приговаривает, окуная наседку в воду: «Ишь, че придумала! Осень на дворе, а она цыплят собралась парить! Отобью охоту, отобью!»
Парнишка удобней устроился на беседке. Лодка качнулась, хлюпнув плоским днищем. Стихла гагара. И опять – тишина.
Парнишка смотрит на краски зари, упавшей на гладь степного озера, и в нем волнуется нечто напоминающее стихи. Слова озаряют пространство. И он радуется их пришествию: «Утро. Безмолвье. Камыш да вода. Алой полоской проснулся рассвет. Тихо плеснула у борта звезда, в небе начертан таинственный след. Чудо природа…» Слова застревают в густоте красок воды и неба. Но парнишка понимает, что прикоснулся к чему-то заветному, новому. И полон незнакомого ему волнения…
Через час он пристает к берегу. Гремит лодочной цепью, запирая её на старом комбайновом колесе амбарным замком.
Домой он придет без охотничьей добычи. Отец как бы и не заметит, что без добычи. Ладно и так. Дичи настреляют старшие сыновья. Они практичней и азартней. А младший – себе на уме. И не поймешь, в какие мысли погружается? Странный.
А парнишка растет поэтом. Вырастет и напишет добрые, правдивые книжки. Уже в новом, неведомом для нас, мире. Без сатанинской демократии, что, словно саранча, выстригает нынче Родину – из края в край.
Взрослым приедет парнишка в родные веси, где, как и прежде, тиха будет по утрам вода озер и в высоте неба услышит он трель жаворонка. Ближнее чистое поле, степь, наполнятся торжественным многоцветьем трав и мелодичным стрекотом кузнечиков. А над всем – будет сиять раскатистый звон колоколов, возвышенного нового храма – в пурпурных старообрядческих одеждах неистребимого, царственно прекрасного заревого неба…
Но вот я, автор завершающих свой ход откровений, в нынешних тревогах зрю абрис коршуна, напоминающего нашу гербовую византийскую птицу, что над сонмом людских нестроений и бед поднята в государственный зенит кроваво-красными небесными потоками. Зрю и опять внимаю Гоголю: «…Кто бы крикнул живым, пробуждающимся голосом, – крикнул душе пробуждающее слово: вперед! – которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов, русский человек?»
Читать дальше