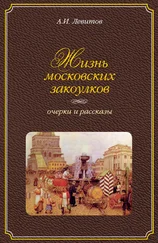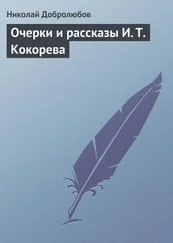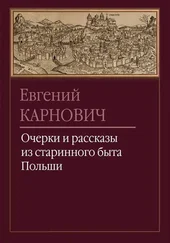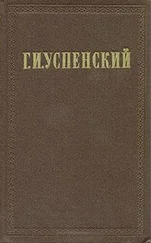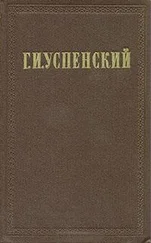«Лайка, – грустно сказал Олег, затягиваясь папиросой, – чистопородная…»
А я, ребята, привезу вам сувенир. Геолог один подарил. У него нет традиционной бороды, а есть наган революционного образца. Носит наган на поясе в кобуре. Смахивает в своей кожанке на гэпэушника 20-х годов. «Вот, – сказал, – возьми! Это горный хрусталь из Саранпауля, приносит счастье».
В останкинскую дубовую рощу мы ходили по вечерам «слушать соловья». Идиома эта затвердилась на нашем курсе с легкой руки Вани Тучкова, с которым я прожил рядом в одной комнате все наши прекрасные месяцы сессий литинститутских лет. Как раз строилась Останкинская телебашня, и мы, приехав на экзамены и на зачеты в Москву, первым делом отмечали – насколько за наше отсутствие продвинулось строительство. Основание башни – этакая фантастическая лапища, упершаяся в землю наподобие инопланетного летательного аппарата, было скрыто коробками домов, только железобетонная «труба», опутанная тросами, шлангами, строительными механизмами, упорно тянулась и тянулась в небо.
Ваня дивился, глядя на «трубу» из окна нашей общаги, прицокивал языком, придумывал «трубе» грубоватые сравнения, наконец, измаявшись от ничегонеделания, учебники он обычно аккуратно укладывал под подушку – «во сне сами войдут в голову!» – тормошил меня, углубившегося в книгу: «Кончай, пойдем соловья слушать!» Я сопротивлялся: надо готовиться, завтра экзамен по зарубежке сдавать! Он парировал: «Все сдадим… Кроме Севастополя! Пойдем!»
Как пели соловьи в прохладные черемуховые майские вечера, какие трели-коленца выдавали в теплые ночи июня! Иногда, случалось это чаще по выходным, я уходил в дубовую рощу один, раскинув прихваченное одеяло, устраивался с книжкой под уютным кустом. Ходили мы еще в Ботанический сад, что рядом с ВДНХ, тоже оккупировав какую-нибудь реликтовую полянку из пахучих трав, погружались в свои конспекты. Иной раз, обнаружив сие безобразие, нас прогоняли сторожа сада. И мы опять шли в дубовую рощу, где никакой стражи…
Теперь, по прошествии лег, когда судьба разбросала нас, литинститутцев, по суверенным государствам, вот и Ваня Тучков за кордоном, а говорил – «Севастополя не сдадим!», горько сознавать, что в октябре 93-го по этой дубовой роще хлестали очередями ельцинские «бэтээры», сбитая пулями, сыпалась листва с дубов, между которыми метались в вакханалии демократического побоища люди, истекали кровью, умирая с остекленевшим ужасом в глазах, вопрошая в холод серого неба: за что?
Но это будем потом, через годы, когда в стране победит серость, а она беспощадна и мстительна, кроваво отомстит за свое прошлое пресмыкательство перед властью, за бездарность, за нищету своего духа. И где ей будет понять красоту и беззащитность таланта, патриотизм подвижников, жертвенность – во имя гордого имени Отечества, Родины!
А тогда, во второй половине шестидесятых, мы радовались удачной строке, образу, эпитету, хлесткой пародии, эпиграмме на какого-нибудь «классика», по-хорошему завидуя успеху товарища, ценя самобытность. К нам в комнату заходили очники – Боря Примеров, Витя Смирнов – смоленский-деревенский, белорус Микола Федюкович, ребята с нашего заочного отделения – Саша Голубев, ставший потом редактором воронежского журнала «Подъем», Толя Демьянов из Ижевска, который писал не только отличные стихи, но и заваривал такой чай, после которого «можно было видеть звезды сквозь семь этажей общаги и то, как бегают в подвале крысы». О, разный талантливый народ бывал у нас! Но больше запомнились поэты. Стихи читали без продыху. И Миша Мамонтов, тоже штатный жилец нашей комнаты, прозаик и староста курса, махнув на все это увесистой рукой машиниста-паровозника, уходил пообщаться с рабочим классом на бульвар или к винному отделу гастронома, где привычно, по рублю, «сбрасывались на троих». Еще Миша признавался, дивясь нашей поэтической неукротимости, что после возвращения с сессии в свой узбекский Алмалык – не может не то что слушать стихи, но и смотреть на все, что написано «столбиком»!
Однажды Михаил вернулся в комнату расстроенный, какой-то взвинченный, таким его еще мы не видели. Ну, рассказывай, – говорим, – что у тебя? – Да вот, – говорит он, – Рубцова вашего знаменитого сейчас отчехвостил! – Мы с Ваней насторожились. Рубцов личность известная в институте, да только ли! Читающая публика в Союзе уже знала этого замечательного поэта…
Читать дальше