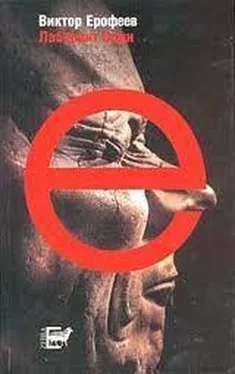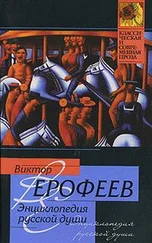Но постепенно тон критика меняется:
«Иронический скептицизм Добычина индивидуалистичен, его ирония съедает без остатка изображаемое им: вещи и объекты действительности теряют свое реальное соотношение, становясь равноценными, вернее, одинаково неясными, в том выхолощенном мире, который изображен у Добычина».
Причисляя книгу Добычина к ряду книг «экспериментальных», рассчитанных на узкий круг «любителей», Н.Степанов стремился сохранить для Добычина место в маргинальной литературе, прикрыть его именем «экспериментатора», однако был вынужден добавить, что в «экспериментаторности» Добычина «слишком много — от формалистических ухищрений и объективизма».
Но Добычина уже ничто не могло «прикрыть». Труд поставить все точки над «i» взяли на себя Алексей Толстой, приехавший специально из Москвы, чтобы заклеймить Добычина как «позор» для всей ленинградской писательской организации, и литературовед Н.Берковский, который заявил на собрании в Союзе писателей, где «разбиралось» творчество Добычина:
«Беда Добычина в том, что вот этот город Двинск 1905 года увиден двинскими глазами, изображен с позиций двинского мировоззрения… Этот профиль добычинской прозы — это, конечно, профиль смерти».
Добычин и тут пошел против течения. Он поднялся на трибуну и кратко, со спокойной дерзостью отверг предъявленные ему обвинения. Как было отмечено в отчете о собрании, опубликованном в «Литературном Ленинграде» (20.III.1936), он сказал
«несколько маловразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждение, что его книгу считают идейно враждебной».
Спустя некоторое время после писательского собрания Добычин исчез. Друзья подняли тревогу. В квартире, где он жил, все было нетронутым, нашли его паспорт: версии об аресте или переезде в другой город исключались.
Стихия воды оказалась в конечном счете роковой не только для героев Добычина, но и для него самого: через несколько месяцев после исчезновения писателя его тело было выловлено в Неве.
Читая Добычина, понимаешь, что он — как и Лиз — в своих произведениях «заплыл за поворот». Но не из кокетства, не из расчета на успех, а потому, что был настоящий писатель. Писательство — это и есть «заплыв за поворот», предприятие рискованное; все прочее, как сказал Верлен, — литература.
Эпоха выполнила, как грозилась, многие свои обязательства. Конфликт Добычина с требованиями времени привел к насильственному забвению его «нейтрального письма». Добычина прокляли, разоблачили как гомосексуалиста и классового врага, растоптали, забыли.
Теперь он воскрес.
«Приняв от всех приветствия и с каждым гостем выпив, именинница сейчас же ошалела и весь вечер просидела молча, хлопая глазами и то вздергивая голову и озираясь, то опять роняя ее».
Недавно в архивах нашли и опубликовали его предсмертную повесть «Шуркина родня», откуда я взял цитату. Эта повесть написана не с «белых» или «красных» позиций. Она написана писателем, который понял, что в России исторически произошло необратимое обесценивание человеческой жизни. Оно породило революцию. Вместе с ней оно породило детей вроде Шурки, которые с младенческих лет способны на все:
«Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их».
Однажды ему с другом подвернулся лежащий на снегу пьяный. Они сняли с него обувь, а в пустые карманы шинели насыпали, чтобы было смешнее, снегу.
«Шурка посмеялся. — Убивать не будем? — глядя на Егорку снизу вверх, спросил он. — Нет, — сказал Егорка, — не из-за чего, — и Шурка с ним согласился».
В Шуркиной деревне никто не заметил большевистской революции, ни один человек. Казалось, она всегда была в России и всегда будет. «Шуркина родня» — не только литературный шедевр. Это мягко оформленный жестокий приговор. Остается только догадаться, чему и кому.
Именинница, несомненно, одарила нас всех своим отборным потомством.
1985 год
Поэта далеко заводит речь…
(Иосиф Бродский: свобода и одиночество)
Слово как будущее культуры, реализующееся в ее настоящем, как предмет веры агностика, озирающегося в опустевшем пантеоне, словно пассажир в опустевшей электричке, — такова «философия слова» у Бродского. Он боготворит язык в духе неоклассической поэтической контрреформации, корни которой лежат в поэзии, с одной стороны, Элиота и Паунда, с другой — русских акмеистов:
Читать дальше