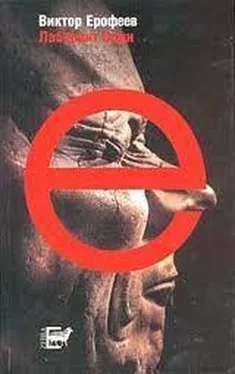Автор этих строк — Гоголь, скрытый за псевдонимом В.Алов. Написанная под сильным влиянием баллад Жуковского и стихов Пушкина, поэма «Ганц Кюхельгартен» была осмеяна современной критикой, и молодой автор скупал ее у книгопродавцев и уничтожал экземпляры поэмы, вводя тем самым в свой жизненный сюжет тему уничтожения, которая столь трагично закончит его. Эта догоголевская поэма была вместе с тем необходима для дальнейшего гоголевского творчества. «Ганц Кюхельгартен» стал как бы точкой отрицания, примером, как не следует писать, негативной основой последующего творчества.
И тем не менее можно найти некоторое родство между тем, что писал Гоголь в юношеской поэме, и его поздним периодом. Взять хотя бы описание двора «разумной хозяйки Берты» из «Ганца Кюхельгартена» и — двора Коробочки из «Мертвых душ»:
…Толпится так же под окном
Гусей ватага длинношейных; так же
Неугомонные кудахчут куры;
Чиликают нахалы воробьи,
Весь день в навозной куче роясь.
Видали уж красавца снегиря…
А вот утро Чичикова у Коробочки:
«Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник, по крайней мере, находившийся перед ним узенький двор весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживался петух мерным шагом, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком…»
В обоих отрывках Гоголь выразил свое художественное пристрастие к бытовым мелочам. Но отчего первая картина двора уныла и безжизненна, тогда как двор Коробочки полон жизни, красок, движения?
Ученичество обещает лишь добросовестность описания: мир называется таким, каким он давно известен. У автора «Ганца Кюхельгартена» торжествует та простота, что хуже (литературного) воровства: воробьи — нахалы, куры — неугомонные, гуси — «длинношейные». Все действия предсказуемы и потому лишены интереса, каждая «тварь» равна самой себе и выполняет только то, что ей положено по природе: воробьи — чирикают; куры — кудахчут. Мир в картине не преображается, а продолжается, тянется, длится и угасает в тоске. Это одномерный мир.
Напротив, «твари» на дворе Коробочки живут непредсказуемой жизнью, принадлежат к многомерному миру. Петух — не только петух, разгуливающий промеж кур; он может в следующую секунду обернуться щеголем, хватом, франтом с соответствующими светскими манерами. То же самое можно сказать о свинье, которая мимоходом съедает цыпленка: это уже не свинья, а целая философия нечаянной жестокости. Во флегматическом преступлении свиньи вдруг вспыхнул и отразился мир совсем не «дворовых» страстей, но, вспыхнув, он не застыл и не утвердился в своем назидательном значении (свинья — тупость — жестокость), а рассыпался и исчез так же быстро, как и возник. Эти переклички различных миров, страстей, ассоциаций и создают подвижную, полную жизни картину преображений действительности. Двор перестает быть хозяйственной мелочью, он вписывается в образ творения как частица единого бытия.
«Спасибо надзирателям — при выходе отобрали, — иронизировал Маяковский над своими ученическими опусами, — а то бы еще напечатал!»
Отсутствие же самокритичной оценки у самого ученика, очевидно, спасительно для будущего художника. Не будь такого временного «затмения», художник не смог бы пробиться сквозь ученичество, устав от него и разуверившись в себе.
Подлинным результатом ученичества является не собрание подражательных произведений, а самое преодоление подражания, то есть переход в иное качество:
Начнем с подражанья. Ведь позже
Придется узнать все равно,
На что мы в сем мире похожи
И что нам от бога дано.
(Д.Самойлов)
* * *
«Молодой стиль» знаменует собою период эстетического самоутверждения писателя, его освобождение от влияния чужого стиля, вызов устоявшимся литературным канонам, бунт и разрыв с учителями. Смиренный, усидчивый ученик вдруг оказывается неблагодарным и самоуверенным «нигилистом», который дерзит учителям, иронизирует над ними, пародирует их метод.
В своих записях Бунин приводит «чьи-то замечательные, — как он пишет, — слова:
Читать дальше