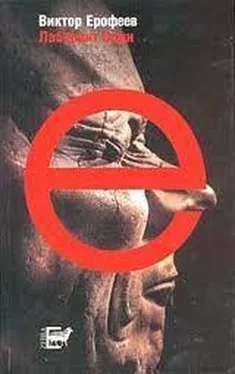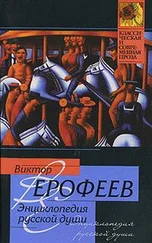«…Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца».
О немецком языке сказано куда более двусмысленно, хотя и не без некоторого уважения:
«…Затейливо придумает свое, не всякому доступное умно-худощавое слово немец».
Зато французской речи отпущен заведомо сомнительный комплимент:
«…Легким щуголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза».
Какой контраст с русским словом, которое вырывается
«из-под самого сердца»! (5, 109).
Предельное отчуждение «французского слона» от русского составляет часть общей стратегии. Борьба с собирательным образом французов, воплотивших в себе основные европейские «пороки», ведется в мифопоэтическом ключе, посредством выделения заимствованных в народной культуре различий между «своим» и «чужим», причем сфера «своего» определяется не только территорией и верой, но и такими основополагающими для мифопоэтического образа категориями, как пища, одежда, язык.
Это, разумеется, не значит, что всю ответственность за то, что дурно в России, Гоголь перекладывает на французов, объясняет их тлетворным влиянием. Парадокс «Мертвых душ» в том, что свои — нехороши и чужие — тоже нехороши, но не так же, однако, как свои, а иначе, на каком-то более фундаментальном уровне онтологии.
Большинство персонажей «Мертвых душ» не являются жертвами непосредственного французского влияния и, за исключением одного Кошкарева из второго тома, не представляют собой носителей, активных проповедников европейских идей и понятий. Более того, эти персонажи заключают в себе если не типично национальные пороки, как Обломов, то во всяком случае такие пороки, которые при всем их общечеловеческом, универсальном характере приняли весьма отчетливые национальные очертания.
Вместе с тем почти каждый портрет знаменитой галереи помещиков не обошелся без испытания «французским элементом». Если главной характеристикой героя всякий раз оказывается его отношение к чичиковскому предложению продать мертвые души, то параллельно этому, на более отдаленном плане, рассматривается его отношение к «французскому элементу», что становится дополнительным штрихом к его общей характеристике.
В главе о Манилове Гоголь в иронической интонации рассуждает о «хорошем воспитании», которое получают в женских пансионах. В них учат, что три главных предмета составляют основу человеческих добродетелей. Среди них — французский язык, «необходимый для счастия семейственной жизни». В «Женитьбе» вопрос о знании французского языка также играет весьма существенную роль. Гоголь подытожил свои размышления о плодах европейского воспитания для русских в горьких словах господина А. из «Театрального разъезда…»:
«…Как гордыми сделало нас европейское наше воспитание, как скрыло нас от самих себя, как свысока и с каким презрением глядим мы на тех, которые не получили подобной нам наружной полировки…» (4, 235).
В дальнейшем в поэме Гоголь трижды обращается к тому, какую роль играет французский язык в русском обществе.
Говоря о дамах города И., которые
«отличались, подобно многим петербургским, необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях»,
Гоголь замечает:
«Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело, там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых» (5, 158).
Гоголь затрагивает достаточно общую лингвистическую проблему — барьер непристойности на чужом языке преодолевается гораздо проще, чем на своем собственном, — но дело, очевидно, не в этом: французский язык выставляется здесь в качестве языка-совратителя, заманивающего дам в грех, является как бы средством, инструментом греха, то есть выполняет бесовскую функцию.
Далее, передавая внутренний монолог Чичикова о женщинах, Гоголь называет их «галантерной половиной человеческого рода» и просит у читателя прощение за «словцо, подмеченное на улице» (5, 164). Это уродливое «словцо» французского происхождения, подмеченное на русской улице, позволяет автору высказать весьма ответственную мысль о лингвистическом положении писателя на Руси:
«Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышать ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь… а вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе» (5, 164).
Читать дальше