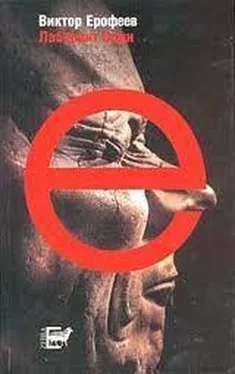Заграница — преддверие смерти. Сначала возникает Ментона. От Ментоны — к французу — Харону, Августину Михайлычу, чья характеристика получает значение запредельной кошмарной галлюцинации:
«…Пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике. Он положил свою крепкую вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел».
Затем как тема жизни возникают образы двух девочек-англичанок, бегущих по пляжу в Биаррице, — преднабоковский образ. И снова, когда герой уже выстрелил себе в рот, возникает образ, связанный с Ментоной, — кстати сказать, может быть, единственный раз Чехов заглянул в то, что сейчас называется life after life:
«Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг схватил его обеими руками, и они оба полетели в какую-то очень черную, глубокую пропасть. Потом все смешалось и исчезло».
Отчуждение посредством иностранной фамилии виртуозно использовано в «Даме с собачкой». Немецкая фамилия мужа Анны Сергеевны лишает его права на читательское сочувствие почти механически и априорно (с добавлением лишь незначительных подробностей психологического свойства). Во всяком случае, «психология» слабее фамилии. Анна Сергеевна с немцем изменила себе. Изменив немцу, она вернулась в себя.
Все больше становясь Чеховым, Чехов поляризирует свое отношение к Европе, возникает расколотый образ, который, так никогда и не найдя высшего примирения, станет моделью нашего, интеллигентского взгляда на Европу, неустойчивого, ненадежного (на него нельзя положиться — подведет), капризного, подверженного минутным настроениям, подвижного, как ртуть.
Ясно, однако, что зрелый Чехов постепенно отдаляется от инстинктивной «народной» ксенофобии, иронически смотрит на нее. В «Дуэли» Самойленко, не соглашаясь с фон Кореном, мечтающим «обезвредить» Лаевского, утверждает…
«— Если людей топить и вешать… — то к черту твою цивилизацию, к черту человечество! К черту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!
Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко.
— Да, немцы! — повторил он еще раз. — Пойдемте чай пить».
Чехов интуитивно движется к русско-французскому согласию. Мечтая покинуть Надежду Федоровну и уехать с Кавказа в Петербург, Лаевский представляет себе,
«как он садится на пароход и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится на поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух становится все холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва… В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях: всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь. Скорей, скорей! Вот, наконец, Невский, Большая Морская, а вот Ковенский переулок, где он жил когда-то со студентами, вот милое, серое небо, моросящий дождик, мокрые извозчики…».
Конечно, это субъективный взгляд с Кавказа, «где бродят голодные турки и ленивые абхазцы», и, тем не менее, русская жизнь характеризуется именно франко-русскими политическими симпатиями, живостью, культурностью, интеллигентностью, наконец — кто бы мог предположить! — даже бодростью, а чеховское описание Петербурга похоже на парижские пейзажи Писарро.
Позиция Чехова постоянно колеблется, из рассказа в рассказ. Он оказывается между двух стульев: понимает узость идеи русского европейца, но все-таки для него Россия — не Азия. Интеллигентная Россия чеховских рассказов порой ближе к Европе, нежели даже к самой себе. Для нас с Францией связано праздничное настроение. Когда Кирилин стал ухаживать за Надеждой Федоровной, и она отдалась ему,
«иностранные пароходы и люди в белом напоминали ей почему-то огромную залу; вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски».
И наша мама — туда же. Сама
Читать дальше