Ерема заплакал, и опять извинился перед Сергеем Есениным.
...Назавтра утром во дворе Дома коммуны строители первыми увидели три бюста, которые сиротливо стояли на земле, лицами они были повернуты на левое крыло, где велись восстановительные работы. Ленина рабочие сразу узнали, а двух других — нет, так и не дались они тем, хоть и старались поднапрячь память и вспомнить, на кого были похожи бюсты.
Они б никогда и не догадались, никогда!
Два оставшиеся бюста были одного и того же человека — Глеба Поповича. Первый был сделан самим скульптором, а второй... поэтом Еремой. Он только учился еще работать с глиной, поэтому его Попович больше был похож на какого-то мужика неизвестной национальности, ужасно худого, с неправильными, уродливыми чертами лица. Ерема все же подбил Глеба Поповича ваять бюсты покойников, поэтому проходил в мастерской ускоренный курс науки, занимался скульптурой с небывалым желанием и вдохновением. Учитель был удовлетворен: из него будет лепило.
Бюсты те во дворе Дома коммуны стояли весьма долго. А потом появились рядом еще и еще, и складывалось впечатление, что это собирается в кучу какое-то войско, и вот-вот оно получит команду идти в наступление... Никто не видел, чтобы кто их сюда, бюсты те, приносил или привозил — словно вырастали сами из земли. Однако вскоре бюсты начали все же создавать определенные трудности строителям, и те пустили их в расход — раздробили и размешали со щебенкой, а потом залили цементным раствором.
Были бюсты — и нет. Когда ночью, возвращаясь из мастерской, Попович и Ерема попутно принесли еще по одному бюсту в мешках, то они, безусловно же, также заметили, что тех, ранее принесенных, нет на прежнем месте.
— Ушли куда-то, — печально улыбнулся скульптор Глеб Попович и пожалел, что из-за тесноты днями раньше вынес на свалку и свой бюст...
Но вот же что интересно: ни Попович, ни Ерема не могли объяснить даже самим себе, зачем занесли они те бюсты именно во двор Дома коммуны?
Инстинкт, что ли?..
Раздел 30. Остановка
Стол смастерили что надо. Приткнули несколько деревянных коробок одна к другой, положили на них лист фанеры — не беда, что тот испачкан донельзя — живого места нет — разноцветной краской и немного отгрызен кем-то один угол. Есть бумага из гастронома, фирменная, в какую завертывают колбасу, когда кладут ту на весы. Есть газеты. Газет — на любой вкус. Киоскеры иногда выделяют им как старым знакомым. «Из Дома коммуны? Тогда — нате!» Поверх фанеры стелется газета, и можно выкладывать на нее все, что добыли всеми правдами и неправдами они за день, и начинать ужин. Сегодня ужин особенный — праздничный: день Октябрьской революции. «Октябрьская». Не так, как раньше — широко и шикарно — отмечают они, эти люди, праздник: судьба закинула их в своды-сплетения Дома коммуны, словно вымыла жизненное море всю эту разношерстную команду на дикий, холодный и голодный песчаный берег, на отмель, где приходится теперь вот каким-то способом выживать, хвататься за жизнь, словно тонущему за соломинку.
Застольем управляет Володька. Сегодня у него настроение никудышное, но он не теряет надежды побыстрее поправить его, привести в норму. Тем более, что для этого на столе все имеется. Откуда быть ему, настроению, когда опять кто-то — ну не сволочной народ, а! — прибрал к рукам тачку. Если бы первый раз было с ним такое, тогда, возможно, начальник и смилостивился бы, а поскольку это уже третья тачка, которая пропала по вине Володьки, так тот ему не простил и справедливо указал на дверь. Терпение лопнуло и у железного армянина Вартана. До этого он работал у вьетнамцев, но тогда потерял упаковку с женскими трусиками. «Может, ты их, тачки, пропиваешь, а, Володька? Не могу верить тебе. Извини». Двери — это весь базар, что вширь, что поперек: куда хочешь, туда и шагай. И он, понурив голову, вернулся домой — в Дом коммуны, где на первом этаже и у него есть уголок. Чтоб не видел Хоменок, что он теперь сюда заходит, стыдно, — Володька залезает в окно со двора. Все окна пока без стекол, только те, что смотрят на улицу Красноармейскую, принимают надлежащий вид: не весь дом пока ремонтируется, а его левое крыло. Но ремонтируется под евро: оконные рамы и двери поставили давно, а теперь там суетятся, топают и стучат рабочие. Но они не запрещают им отдыхать, а сегодня, в праздничный день, и совсем тихо: выходной, наверное, и у строителей.
С того времени, как Володька оказался на улице и облюбовал себе временно здесь жилище — а все временное, как известно, иной раз тянется весьма долго, — прошел уже почти год, он вырос в глазах этого люда и хотя является здесь не самым главным человеком, однако авторитетом пользуется: следует только Володьке попросить внимания, для чего надо лишь поднять руку, сразу делается тихо, как в прежние времена на уроке в школе. Уважают. Володька любит рассказывать разные байки, соседи его слушают, разинув рты: еще бы, человек работал на радио, его голос слышали в каждой квартире, а теперь — гляньте только! — звучит, как по заявке, тот голос перед ними. Кому так еще повезет! Свой Левитан. Тем более что Володька когда-то брал интервью у многих известных людей, а однажды удивил всех, сказав: «Что, думаете, я не найду денег? Да мне сам мэр одолжит, Васька Бубнов! Я с ним, между прочим, если знать хотите, в партшколе учился. А?» Принес тогда червонец, угостил всех, кто не болтался на вокзале и «пятачке» и был еще трезв. А когда увидел, что хорошее дело сотворил для людей, Володька едва не пустил слезу, однако собрался с духом, тряхнул в воздухе кулаком:
Читать дальше
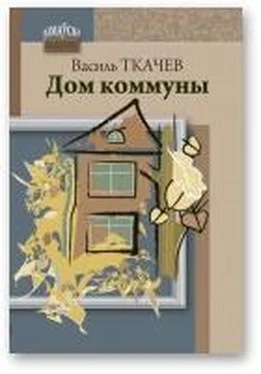







![Сергей Васильев - Построить дом [СИ]](/books/426373/sergej-vasilev-postroit-dom-si-thumb.webp)
