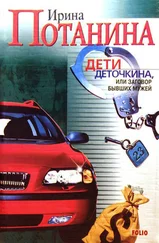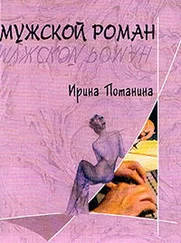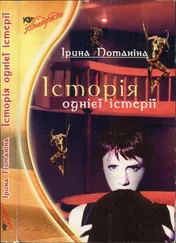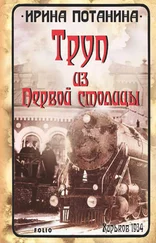Ирина Потанина
Русская красавица. Анатомия текста
(Книга третья)
«И мы полетели,
за руки взявшись,
над прошлым, над будущим
и настоящим…»
Сцепившись ладонями и немножко задыхаясь, мы изо всех сил летели вниз, к автостанции. Летели, как воздушные шары: очень радостно, невесомо, но непоправимо медленно. Маршрутка на нужном месте уже фырчала, гудела страшным голосом, разгоняла сородичей-машинок, била копытом, предупреждая, что сейчас тронется… И казалось, нет никакого прока от нашего новшества. Подумаешь, не следуем общей дорогой! Подумаешь, не толчемся в переходе, а мчимся напролом: по грязи, через гаражи, а потом вниз по необъезженной спине горбатого склона… Все равно время сильнее нас. Все равно «я убиваю время, время убивает меня…»
— Борька-негодяй! — я прекращаю воспроизводить все приходящие на ум обрывки песен и визжу, тщетно пытаясь сбавить скорость. — Борька-пакостник!
Это не из озорства, а вполне за дело. Перед здоровенной лужей, покрывшейся необоснованно ранней корочкой, Боренька забыл о разнице наших габаритов, и бесстрашно прыгнул, увлекая меня за собой. Половину лужищи я пролетела как Пятачок за Вини: зажмурившись и смешно болтая в воздухе ступнями. Потом притяжение взяло свое, я проломила безвинную хрупкую ледяную корочку, наполнила ботинки противной холоднючей жидкостью и принялась материть Бореньку.
— Утренняя пробежка, холодный душ — все как у нормальных людей! — невозмутимо скалится мой негодяй и пакостник, продолжая тащить за собой. Что б не стучали, заговаривает зубы глупостями. — А вообще, это я тебе омовение ног совершил. На бегу, не срывая одежд, но с большой долей искренности — все как у нас обычно. Символично, да?
Он подхватывает меня под мышку и перепрыгивает через следующую лужу.
— Мы упадем! — содрогаясь от восторга и ужаса, выкрикиваю я. — И не успеем! — добавляю, заметив снижение темпа. Нет, все-таки нужно было, как обычно, на метро ехать. Подумаешь, пройтись от станции до Марининого дома — ерунда… Зря Борька придумал отправлять меня по верху. Маршрутка уедет сейчас, а я всех подведу своим опозданием!
— Успеем, — Боренька на ходу выуживает из недр куртки большой, похожий на питекантропа своей неуклюжей доисторичностью телефон и все портит, вернув нам чувство времени, — Еще пять минут. Зря жир трясли.
Возбуждение мигом спадает. Стоим у маршрутки, терзаемые этими свалившимися неожиданно на нашу голову лишними минутами прощания. Наигранно увлеченно разбираемся с ботинком. Выливаем воду в четыре руки, тяжело охаем, то ли, чтоб отдышаться, то ли вздыхая горестно.
— Ну, удачно тебе съездить, что ль… — Боренька болезненно морщится. — Привет семье.
Потом пугается чего-то, прочитанного в моем резко поднятом взгляде, изворачивается:
— Да я пошутил. Ну, прости. Ну, не смотри так. Я все понимаю. Ты не к нему едешь, а с ним, — цитирует мои вчерашние объяснения, — Поэтому повода нервничать нет, тем более, что я вообще никогда по этому поводу не нервничаю. — тараторит, подражая моей интонации и стараясь развеселить меня. — Видишь, я все помню! И понимаю, вероятно, раз до сих пор с тобой и не сошел с ума от ревности…
Усаживаюсь на переднее сидение, «делаю ручкой» Бореньке, горюю. Прилюдная нежность у нас не принята, а то б не сдержалась, повисла б на шее, и ну себе прощение выревывать. За что? Да за то, что опять еду к Павлику.
Не моя вина, между прочим! Обстоятельства вынудили. Только-только состоялись все главные объяснения. Только-только мы с Павлушей решили больше не видеться, и я, гордая своим благодеянием, рассказывала Борьке, что «отпустила этого ни в чем не повинного, милого мальчика». А Боренька кивал с деланным безразличием, и только обнимал меня как-то по-новому: внимательно, серьезно и возвышенно. Будто благодарил этими объятиями, будто понимал, что ему одному теперь моя жизнь отдана, будто признавал торжественность момента и упивался ею…
— Моя! — шептал ночью разгорячено. — Моя безоговорочно!
Несмотря на изображаемое свободонравие, Боренька вообще-то был жутким собственником.
И вот, после всего этого, снова еду к Павлику. Ну а как же? По отдельности нам нельзя на такое мероприятие. По отдельности мы можем не выдержать.
— Забыл совсем! — Боренька стучит в стекло. — Это тебе! — он протягивает очередной сувенир — маленькую смешную бумажную курицу. В последнее время у Бореньки проснулась страсть к оригами, он листает книжки и безостановочно мастерит что-то из бумаги. Нельзя не любить его за это вечное мальчишество. Нельзя не любить, будучи посторонней, но нельзя не корить — став близкой и делящей жизнь. Мальчишеством сыт не будешь!
Читать дальше