Его мучило теперь сознание, что он прожил свою жизнь за счет жизни кого-то из тех убиенных, в погибели которых он не чувствовал своей вины, но й не виноватым тоже не мог теперь представить себя, не погрешив против нравственного самосознания, ибо не мог бы никогда почувствовать себя счастливым в доме, где стоит гроб.
Хотя и то верно, что он, узнавая в свое время об открытых процессах над «врагами народа», не сомневался, что суды над ними — праведные суды. В нем даже порой посапывало в глубине души злорадное чувство мести, будто он убеждался воочию в торжестве справедливости, видя черные фамилии тех, кто недавно еще так или иначе был виноват в разрухе и голоде, в той насаждаемой ими враждебности, какую он сам своей шкурой на каждом шагу испытывал.
Он догадывался по-своему в минуты мутного мщения, что оттого они и враги, что разъяли народ на части, раскололи монолит великой России, сведя с ума лучших ее сынов. Ему даже чудилось иной раз, что сумеет теперь Саша побороть свою болезнь и вернется с душевным облегчением домой, такой же улыбчивый и красивый, каким он помнил его на старом Крымском мосту...
Как это ни странно теперь вспоминать, но казни или смертные приговоры, о которых сообщали газеты, вносили в его душу некую успокоенность, как если бы именно его, Василия Темлякова, преследовали коварные злодеи, но нашлись в стране могущественные силы и он был спасен от гибели! Что-то в этом роде испытывал он всякий раз, узнавая о раскаявшихся и признавших свою вину преступниках. Уничтоженные, они освобождали захламленный путь России к счастью, а вместе с Россией он и сам со своим семейством делал шажок к этому будущему счастью, восклицая при этом с облегчением:
— Слава Богу, наконец-то! А то ведь просто невмоготу стало жить... Оказывается, вон кто виноват! Ну хорошо, теперь жизнь наладится.
Он и Дунечку свою заставлял верить в справедливость этих казней, на что она ему, как добрая мать, говорила в задумчивой отрешенности:
— Но ведь для этого нужны и палачи.
— Конечно! — восклицал он решительно. — Как же без них?!
Это было страшно теперь вспоминать.
Никакие комбинации всевозможных умственных упражнений, которыми он пытался порой не то чтобы оправдать, но хоть как-то привести в равновесие душевные свои силы и унять тревогу, не помогали ему избавиться от тех наивных и до преступности глупых размышлений о неизбежности жертв на историческом пути развития страны, о необходимости казни и палачей, какими он отвлекал себя в ту давнюю пору. Хотя он и успокаивал Дунечку, говоря ей, что, дескать, палачей как таковых уже нет, все делает нехитрая механика, и что якобы приговоренного выводят в коридор, в котором, как на зверя, насторожена заряженная винтовка, тот подходит к черте, ногой наступает на пружинящую проволоку и таким образом сам себя расстреливает, потому что половица соединена со спусковым крючком винтовки и выстрел происходит сам собой...
Он в безумии своем пытался внушить Дунечке и самому себе идею гуманной казни во имя благополучия и нравственного здоровья народа, веря в эти россказни как последний дурак, развесивший ослиные уши.
А Дунечку, которая возражала ему, говоря, что все равно кто-то ведь должен заряжать и настораживать винтовки, не хотел и слушать, убеждаясь всякий раз с великодушной насмешкой, что жена ничего не понимает в большой политике, если ее беспокоят такие мелочи.
Он жил, подчиняясь инерции, которую принимал за свой выбранный в здравом рассудке жизненный путь, а все, что делалось вокруг, старался объяснить и понять как именно свой тоже, единственно возможный и сознательно избранный им, как и всем народом, исторический путь России, и очень обижался и ревностно страдал, если кто-нибудь не хотел признавать за ним его права считать этот путь своим.
Теперь его мучили ужасы. Он один был виноват в мучениях, которые выпали на долю его народа; вину свою он видел даже в том, что не знал правды. Будто бы, зная эту зловещую правду, он мог бы спасти невинных людей, отговорив палачей от злых поступков.
Ночные стенания души будили его, и он всякий раз думал, что вот и он умирает в черном одиночестве, проклятый поколением юных праведников, узнающих в нем свидетеля казней, пыток и бесконечных этапов осужденных на погибель людей, о которых он умышленно не хотел знать, прожив свою жизнь безнравственным невеждой, не пожелавшим дознаться до правды. До той самой правды, что была не за тридевять земель, а рядом с ним, за стеной его благополучного дома и даже в соседних комнатах, отделенных от комнаты, где он жил с Дунечкой, голубыми обоями с белыми лилиями, слоем штукатурки и кирпичей, положенных всего лишь в один или два ряда.
Читать дальше
![Георгий Семёнов Путешествие души [Журнальный вариант] обложка книги](/books/73286/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia-cover.webp)


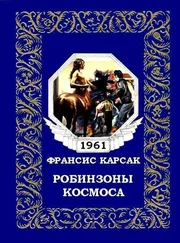



![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
