Зимой, когда он хоронил Сашу, или, как мать называла его, Шуру, вместе с ужасом, какой испытывал он, преследовало его странное чувство вины и смиренной неловкости перед людьми, с которыми он имел дело. Будто он, отвернувшись от великих бед отечества, забыв о тех жертвах, какие несло оно в страшной войне, докатившейся до Москвы, преступно озабочен был сугубо личным своим делом — похоронами брата, не имевшего никакой не то что заслуги перед истекающим кровью отечеством, но вообще являвшегося лишним, никому не нужным, мешающим сражающемуся народу человеком, смерть которого как бы сама собою разумелась, ибо жизнь этого человека отвлекала многих людей от главного дела всей страны. Он очень остро ощущал это чувство виноватости, зная, что в каких-то десятках километров от больницы и от деревенского кладбища только что легли в боях декабрьского контрнаступления наших войск тысячи молодых, здоровых, хороших людей, жизнь которых обещала такое же здоровое и хорошее, как и сами они, поколение несостоявшихся потомков, в то время как жизнь Саши была темным тупиком, биологически бесперспективной туманностью, которую и жизнью-то назвать можно было только с серьезными оговорками.
Теперь же, когда немцев отогнали от Москвы и они лишь ночными налетами пугали москвичей, бесприцельно сбрасывая из тьмы свой бомбовый груз; когда у всех появилась уверенность в своей силе и способности бить немцев; когда здесь, на деревенском погосте, вдали от отодвинувшегося фронта, гракали в брачных играх и гнездовых заботах усталые от перелета очень мирные грачи, — Темляков, тупо глядя на глину осевшей могилы брата, весь отдался переполнившей его жалости, сострадая душою несчастному.
Сияюще-желтый цветок мать-и-мачехи раскрылся пушистой звездочкой на его жалкой могиле, и Темляков, не заметив утром этого чуда, прятавшегося в холоде земли, пока солнце еще не коснулось теплом глинистой впадины, похолодел от нахлынувших чувств, будто это был знак оттуда, где лежал брат, не истлевшее еще тело Саши, пославшее ему некую улыбку...
Перед глазами его зарябил металлическими конструкциями и решетками старый Крымский мост с деревянным настилом, и услышал он жизнь ледохода на Москвареке, как принято было называть в семье реку, не склоняя слова Москва, а произнося его слитно с рекой. Почему-то было очень важно ему после свидания с братом подумать об этом, словно таким образом он обособил эту реку от нынешней, назвав по старинке Москварекой.
Правый берег, где они с братом родились и жили, естественно и просто возник в проясненной и живой памяти. И оттуда, из того булыжного, трамвайно-звонкого Замоскворечья, побежали они с братом под горку, по Крымку к шумной реке и вместе со множеством радостного люда увидели с дрожащего моста, подпертого в то время каменными быками, мрачно-серую и вспененную белым крошевом льда неукротимую лавину вспученной реки... Жар небесных лучей и свежий холод зимнего черепа реки, грохот взломанных льдин, дыбившихся и сверкающих голубым огнем, упрямое их движение, которое далеко было видно в прозрачно-чистом просторе реки. Взъерошенной лавой река выпирала из-под недалеких Воробьевых гор, круто поворачивая там, в излучине, полукружьем, опоясывая Москву, делая воробу, отчего и назвали древние москвичи свои гористые холмы над рекой Воробьевыми, то есть вознесшимися над городом и над Москварекой лесистой подковой.
И оттуда, по этой крутой воробе, из-за поворота с бесконечной, казалось, деловитостью, с утробным гулом и сырым, тяжким хрустом наползал на мост ледоход. Огромные льдины, приближаясь, напарывались на быки, с адовым скрежетом и ревом лезли на них, стекленели, оголяя свою толщу, сверкали в солнечных лучах узловатыми сколами, с шумным чавканьем водяных жителей подбирались, пугая веселых зрителей, чуть ли не под самый настил моста, но с сопящим ревом и грохотом рушились, разламываясь, в бурлящую струю ожившей реки, в сизое крошево все наплывающих и наплывающих с однообразной и незаметной скоростью льдин.
Шумно было, весело, тепло и холодно, а на сердце страшновато и храбристо. Страшно, что мост дрожал, но и не страшно, потому что так много собралось людей на мосту, так много вокруг было радостных улыбок и восторженных переглядок, общих криков, вселюдной причастности к чуду весны, что даже испуг при виде уж очень большой и толстой льдины, хрустальной глыбой напиравшей чуть ли не на перила моста, грозя изломать непрочные сооружения, только веселил беспечных зрителей, которые с игривым ужасом, с криком и визгом отпрянывали от перил, от того голубо-алого, золотисто-синего чудовища, которое со звериным ревом лезло на них, грозя раздавить, но опять и опять разрушалось, сотрясая мост. Страх этот был веселый.
Читать дальше
![Георгий Семёнов Путешествие души [Журнальный вариант] обложка книги](/books/73286/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia-cover.webp)


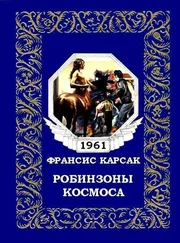



![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
