– Попытайся открыть глаза, когда будешь стрелять в следующий раз, – сказал я.
– А, – сказал он, опуская пистолет, – ты уже встал.
– Да.
– Как ужасно получилось.
– Да уж.
– Правда, нет худа без добра. Может быть, мы все смоемся отсюда и будем благодарить Бога за то, что произошло.
– Почему?
– Это выбило нас из колеи.
– Это уж точно.
– Когда ты со своей девушкой выберешься из этой страны, найдешь новое окружение, новую личину, ты снова начнешь писать, и ты будешь писать в десять раз лучше, чем раньше. Подумай о зрелости, которую ты внесешь в свои творения!
– У меня сейчас очень болит голова.
– Она скоро перестанет болеть. Она не разбита, она наполнена душераздирающе ясным пониманием самого себя и мира.
– Ммм… мм, – промычал я.
– Как художник и я от перемены стану лучше. Я никогда раньше не видел тропиков – этот резкий сгусток цвета, этот зримый звенящий зной.
– При чем тут тропики? – спросил я.
– Я думал, мы поедем именно туда. И Рези тоже хочет туда.
– Ты тоже поедешь?
– Ты возражаешь?
– Вы тут развили бурную деятельность, пока я спал.
– Разве это плохо? Разве мы запланировали что-то, что тебе не подходит?
– Джордж, – сказал я. – Почему ты хочешь связать свою судьбу с нами? Зачем ты спустился в этот подвал с навозными жуками? У тебя нет врагов. Свяжись ты с нами, Джордж, и ты приобретешь всех моих врагов.
Он положил руку мне на плечо, заглянул прямо в глаза.
– Говард, – сказал он, – с тех пор, как умерла моя жена, у меня не было привязанности ни к чему в мире. Я тоже был бессмысленным осколком государства двоих, а потом я открыл нечто, чего раньше не знал, – что такое истинный друг. Я с радостью связываю свою судьбу с тобой, дружище. Ничто другое меня не интересует. Ничто ни в малейшей степени меня не привлекает. С твоего позволения, для меня и моих картин нет ничего лучше, чем последовать за тобой, куда поведет тебя Судьба.
– Да, это действительно дружба, – сказал я.
– Надеюсь, – отозвался он.
Глава двадцать девятая.
Адольф Эйхман и я…
Два дня я провел в этом подозрительном подвале беспомощным созерцателем.
Когда меня избивали, одежда моя порвалась. И из хозяйства Джонса мне выделили другую одежду. Мне дали черные лоснящиеся брюки отца Кили, серебристого оттенка рубашку доктора Джонса, рубашку, которая когда-то была частью формы покойной организации американских фашистов, называвшейся довольно откровенно – «Серебряные рубашки». А Черный Фюрер дал мне короткое оранжевое спортивное пальтишко, которое сделало меня похожим на обезьянку шарманщика.
И Рези Нот и Джордж Крафт трогательно составляли мне компанию – не только ухаживали за мной, но и мечтали о моем будущем и все планировали за меня. Главная мечта была – как можно скорее убраться из Америки. Разговоры, в которых я почти не участвовал, пестрели названиями разных мест в теплых странах, предположительно райских: Акапулько… Минорка… Родос… даже долины Кашмира, Занзибар и Андаманские острова.
Новости из внешнего мира не делали мое дальнейшее пребывание в Америке привлекательным или хотя бы возможным. Отец Кили несколько раз в день выходил за газетами, а для дополнительной информации у нас была болтовня радио.
Республика Израиль продолжала требовать моей выдачи, подстегиваемая слухами, что я не являюсь гражданином Америки и фактически человек без гражданства. Развернутая Израилем кампания претендовала и на воспитательное значение – показать, что пропагандист такого калибра, как я, – такой же убийца, как Гейдрих, Эйхман, Гиммлер или любой из подобных мерзавцев.
Возможно. Я-то надеялся, что как обозреватель я просто смешон, но в этом жестоком мире, где так много людей лишены чувства юмора, мрачны, не способны мыслить и так жаждут слепо верить и ненавидеть, нелегко быть смешным. Так много людей хотели верить мне.
Сколько бы ни говорилось о сладости слепой веры я считаю, что она ужасна и отвратительна.
Западная Германия вежливо запросила Соединеные Штаты, не являюсь ли я их гражданином. Сами немцы не могли установить моего гражданства, так как все документы, касающиеся меня, сгорели во время войны. Если я – гражданин Штатов, то они так же, как Израиль, хотели бы заполучить меня для суда.
Если я – гражданин Германии, заявляли они, то они стыдятся такого немца.
Советская Россия в грубых выражениях, прозвучавших подобно шарикам от подшипника, брошенным на мокрый гравий, заявила, что нет никакой необходимости в процессе. Такого фашиста надо раздавить, как таракана.
Читать дальше
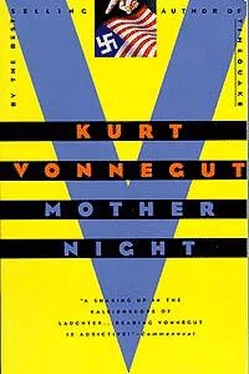





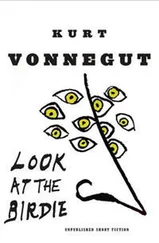
![Курт Воннегут - Вампитеры, фома и гранфаллоны [litres]](/books/397997/kurt-vonnegut-vampitery-foma-i-granfallony-litre-thumb.webp)

