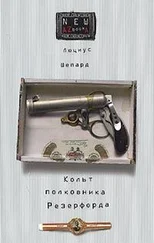– Это я уже слышала.
– Нет, правда. Представь, я могу так тебя загипнотизировать, что ты почувствуешь страсть. Хочешь?
В матрасе зашуршала солома – Альвина повернулась на бок и поймала Минголлин взгляд.
– Десять лемпиров, – сказала она, – и я тебе хоть петухом прокукарекую.
– Я о другом.
Протянув руку, она погладила его член.
– Ерунда,– сказала она горько.– Десять лемпиров. Про всех девчонок позабудешь.
Он обиженно оттолкнул ее руку.
– Не хочешь? – удивилась Альвина. – Ну ладно, тогда в другой раз, когда будет настроение.
Ему очень хотелось сделать то, что обещал, даже против ее воли, но что-то не пускало – Минголла не мог избавиться от уверенности, что эта женщина его выше.
– Не понимаю,– сказала через некоторое время Альвина. – Теперь я вообще ничего не понимаю.
Утро в Баррио отличалось от ночи только тем, что изредка поднимались секции крыш, внутрь лились струи серого света и заключенные, рискуя получить увечья, собирались под открытым небом, чтобы хоть мельком взглянуть на свободу; в остальном между черными столбами и кострами царил все тот же дымный оранжевый сумрак. Леон и Минголла сидели в темной нише центральной части Баррио – там, растянувшись во всю ширину тюрьмы, сохранилась целая улица глинобитных домов, и в одном из них, с белыми стенами, черными ставнями и разведенным неподалеку костром в смоляной бочке, жил Ополонио де Седегуи.
– Видишь четыре мужика у входа? – Леон сунул кончик ножа в пакет со снежком. – Они там всегда. Телохранители. Думай сам, как от них избавиться. Отвлечь, может. – Он вдохнул порошок прямо с лезвия. Черные глаза расширились, щеки втянулись. – Chingaste! Классная штука!
Четверо парней, выстроившиеся в ряд у дома де Седегуи, были молоды, накачаны и, судя по заторможенности, находились под психическим контролем. Вопиющая небрежность со стороны де Седегуи: вполне возможно, именно телохранители и вывели на него американских агентов.
– Если у тебя есть еще, то я знаю ребят, которые будут только рады, – сказал Леон.
– Потом поговорим.– Минголла тоже вдохнул целое лезвие снежка и посмотрел по сторонам. Он все больше привыкал к шуму, вони и с удивлением отмечал, что, похоже, ему здесь нравится. Он хмыкнул, и Леон спросил, что его так рассмешило. – Ничего, – сказал Минголла.
Леон тоже засмеялся, словно в этом «ничего» на самом деле было что-то веселое. В уголках глаз собрались острые лучики, и красно-коричневая кожа стала похожа на бумагу.
– Значит, – сказал он, помолчав, – ты Альвинин двоюродный брат, ага? Странно, она ничего о тебе не говорила. Обычно только о родне и болтает.
– Она про меня не знала, – ответил Минголла. – Я из другой ветви.
– А! – сказал Леон. – Тогда понятно.
Минголла вдохнул еще снежка. В голове происходили приятные вещи, зато нос разрывало на части, и Минголла подумал, что, может, стоит класть порошок под язык. Или вообще остановиться. Но он уже настолько привык быть на взводе, что постоянная подкормка казалась вполне нормальной.
– А я думал, у нее вся родня под Кобаном, – сказал Леон.
– Выходит, нет.
– Знаешь, – сказал Леон, – глупо лезть в эту яму, чтобы прикончить одного парня. Он и так считай что труп.
– Да, наверное.
– Тогда чего тебе на самом деле надо?
С подозрительностью Леона скоро придется что-то делать, но сейчас Минголла чувствовал себя настолько свободно и спокойно, что решил пока не трогать.
– Пошли отсюда. – Он поднялся на ноги.
По пути к домику Альвины Минголла размышлял о том, действительно ли ему здесь нравится: виноват, скорее всего, был порошок, но все-таки Баррио представлялось... не то чтобы красивым, но живописным. Картины его излучали внутренний свет и мудрое спокойствие, напоминавшее Минголле работы старых мастеров. Вот трое мужчин навалились на женщину, она брыкается и царапается, но все четверо смотрят вверх – туда, где открылась крыша, и древко солнечного света заиграло на их фигурах, заставило замереть и преобразиться. А вот в тени под соломенным навесом сидит старая карга, ну вылитый персонаж Гойи [15]: лицо ее обрамляет черный платок, в руке она держит перо и удивленно на него таращится. И все Баррио с его черными перегородками, дымно-оранжевыми секторами горя, пляской пламени и силуэтами чертей представлялось Минголле коллекцией доренессансных триптихов. Подобно парню, что расписывал фресками разбомбленные деревни, он мог остаться здесь навсегда и обрести бессмертие, сохраняя для потомков жизнь в страхе и лишениях... Новый звук, волна смеха и еще более сильного возбуждения покатилась ему навстречу, и Минголла замер. Цепочка одетых в маски охранников кнутами и автоматами гнала вперед толпу заключенных.
Читать дальше