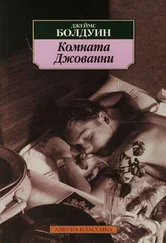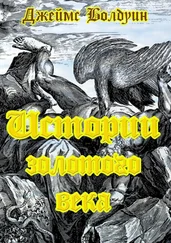У двери двое полицейских, те самые молодчики, что вышвырнули горемыку, простоявшего у моего окна дольше положенного. Я учтиво киваю им — одному, потом другому. На двери металлическая ручка, я надавливаю, запор щелкает, и дверь распахивается. Хлынувший день обесцвечивает янтарную муть, а я, ослепленный, через молочную пелену вижу знакомое: кишащую людьми улицу.
Смотрю направо. Мейси нет. Налево. Под сводами Мейси нет.
Идущие в сторону Вязовой здесь попадают в затор, потому что в нескольких футах от сводчатого входа голова очереди в Бюро. Обегая глазами застопорившуюся массу спешащих на работу, я высматриваю среди их шляп и голов знакомую копну волос. Если Мейси смотрит в мою сторону, я могу и не узнать ее; в фас я ее не видел. Может, от входа ее отнес людской поток, который хоть и медленно, но неуклонно тянет вправо?
Я поднят над прохожими на две ступеньки. Гляжу поверх годов вправо, ищу высокую прическу Мейси, а вижу возбужденные лица ожидающих представить на суд свои прошения.
С лязгом открывается дверь и бьет меня в спину. Вышел художник. Он рычит: «Бюрократы, твою мать», и, толкнув, обходит меня.
Я спускаюсь в толпу, вливаюсь в ее течение. Мы больше кружимся на месте, но хоть не стоим. Небо уже почти безоблачно, воздух тяжел, как сморенные сном веки.
Вскрикивает сирена.
— Сколько сейчас: девять пятнадцать?
Человек, которого я спрашиваю, в темных очках, и в каждом стекле я вижу самого себя с длинной шеей.
— Угу, — отвечает он и дважды кивает головой, опасно растягивая и сокращая обе мои шеи, причем одна голова проворнее другой садится на место, поскольку в стеклах разные диоптрии.
Эти близнецы-уродцы, эти «я» и «не-я» вызывают во мне вспышку ярости. И что удивительно, мой гнев минует лживые темные стекла, укрывшегося за отсвечивающим стеклом кузнечика с плоским голосом, бестолковую и вероломную Мейси, словно в воду канувшую: гнев обрушивается на сволочь компьютер. Компьютер доносит на меня, когда я запаздываю. Я мог управиться с отчетами вовремя, если бы пожелал. Сейчас девять пятнадцать; я отлично рассчитал свое утро, у меня час с четвертью, чтобы добраться до рабочего стола, — времени достаточно, если постараться, но я намерен опоздать. Пусть доносит!
Мы подошли к голове очереди, и мне выпадает тащиться впритирку к стоящим с краю; плечо до боли наминают очередники, и я вспоминаю, как мусорщик мучился с правой рукой, измочаленной прохожими, и, глядя на лица людей, почти добравшихся до входа в Бюро, видя их лихорадочное возбуждение, я вспоминаю свои собственные горячечные чувства на этом этапе долгого ожидания, и мою память и мой гнев затопляют бабуля и брюзга художник, голодный живчик мусорщик и Подковка, учительница, и жалкий специалист по лазейкам с его лотереей, и Гавана, минутами похожий, а потом ничуть не похожий на моего трясущегося беднягу отца, и разделенная от меня только горячей влажной тканью Мейси, такая понятливая, пропади она пропадом. И пока мой гнев еще занимается компьютером, в голове сверкает мысль — и снова приливает надежда; она не размывает гнев, а отмывает его добела.
Вот эта мысль: пожалуй, я должен подать прошение о дополнительном времени на написание отчетов. Мысль соблазнительная.
Я бы и так успевал с отчетами, если бы захотел. Но если у меня будет дополнительное время…
Не завтра. Может, послезавтра. Это даст время все обдумать, продумать лучше, чем к сегодняшнему утру, все, что я захочу сказать у жалобного окна.
Очередь в этом месте оживленно бурлит, все наверняка интересуются прошениями друг друга. Мелькает золотой зуб, шлепает губа, порочно горит глаз.
Да, может быть, послезавтра я и приду с прошением о дополнительном времени.
____________________
JOHN HERSEY. My Petition for More Space © 1971 by John Hersey. This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, Inc. Перевод В. Харитонова
Джеймс Болдуин
«Если Бийл-стрит могла бы заговорить»
Мария, Мария,
А как ты назовешь
Этого славного малыша?
Часть первая
Тревожусь за душу свою
Я смотрю на себя в зеркало. Я знаю, что при крещении мне дали имя Клементина, и прямой смысл называть меня Клем или, если уж на то пошло, Клементина, ведь дали же мне такое имя. Так нет же! Я для всех Тиш! И в этом, наверно, тоже есть какой-то смысл. Я устала и начинаю думать, что какой-то смысл есть и во всем, что с нами случается. Потому что если бы не было в этом смысла, то как такое могло случиться? Но эта мысль страшная. Ее рождает только беда, — беда, в которой смысла нет.
Читать дальше