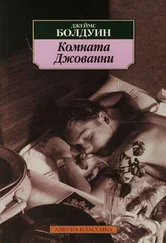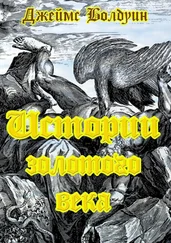Мне безразличен исход их болтовни, и, повернувшись к мусорщику, я говорю ему громким неприятным голосом:
— Очередь сегодня еле движется.
Время от времени, примерно раз в минуту, удается на дюйм-другой просунуть ногу вперед. Случается, при этом теряешь равновесие, но это не страшно: в тисках толпы человек удерживается стоймя. В цоколе здания Бюро шестнадцать жалобных окон. Согласимся, что каждый проситель выстрадал правоту своей просьбы, и, когда отгородившийся от него зарешеченным окном служитель Бюро отклоняет прошение, понятно, что проситель будет возражать — сначала гневно и с возмущением, а там и дрожи подпустит в голос, и на все уходит время. Хочется, чтобы у окошек с каждым разобрались. Когда без малого пять часов протомишься в очереди, надо же хоть несколько минут, чтобы примириться с отказом. А тем временем топчется на месте колонна, вытянувшаяся, я думаю, уже на четверть мили.
В ответ на мое замечание, что очередь еле движется, мусорщик вдруг ударяется в жалобы.
— Плохо питаюсь, — говорит он. — Слышишь? Жена болеет. Совсем дурная стала. После работы придет в спальный зал и сразу орать на меня, кидается чем ни попадя. Все к соседям летит. Пришлось отвезти в Коннектикут-Вэлли. В приемном покое говорят: «Подпишитесь, сударыня». Она говорит: «Это что?» Те: «Подписка о добровольном согласии». Она им: «Я погожу». Они говорят: «Сударыня, надо подписаться». Тогда она кивает на меня и говорит: «А пусть этот олух подпишется». Ей говорят: «Давайте, давайте, сударыня, такой порядок». А она в ответ: «Всем давать — другим не останется». Я прямо обалдел. Чуть в обморок не бухнулся. Жрать хочу все время.
От вида его заострившегося лица мне делается тошно. Те двое еще шушукаются. Я не прислушиваюсь. Я поражаюсь игре случая.
Я очень сблизился с этой девушкой: мы шепотом откровенничаем, скоро у нас не будет секретов друг от друга — как же это все случилось? Или я втайне надеялся, даже рассчитывал оказаться за такой девушкой, когда в пять утра вставал в хвост очереди? Кругом была темь, хоть глаз выколи. Конец очереди я нашел на Вязовой, за углом, фонарей поблизости не было. Много ли увидишь? И мог ли я сознательно выбирать? На выбор было четыре колонны, еще не так набитые, как сейчас. Что мешало мне встать левее, иначе говоря, на бабулино место, за этим доходягой, который напомнил мне отца? Я пытаюсь разгадать игру случая, вороша события раннего утра: каким, например, особенным усилием указательного и большого пальцев заводил я будильник, что он затрещал под подушкой (чтобы не будить соседей) в 4.32, а не в 4, скажем, 29? Тогда бы я пришел в очередь на три минуты раньше и разминулся бы с девушкой. До сегодняшнего утра я был в очереди пять раз; один раз я стоял за пожилой дамой, в остальных случаях — за мужчинами. А сегодня…
Она кончила свои переговоры с мужчиной в спортивном пиджаке. Повернув голову вправо, она вполголоса говорит:
— Это в самом деле интересно. Недавно он выезжал с сослуживцами на пикник. Их отвезли в Мадисон, и на пляже в очереди в мужскую раздевалку его сосед…
— Случай, — шепчу я.
— Что вы имеете в виду?
— Его соседа… Это лотерея.
Поводя головой, она с минуту озадаченно раздумывает, но туманного смысла моих слов, конечно, постичь не может.
— Ну да, — продолжает она, — тот человек предложил нашему приятелю сыграть в денежную лотерею. Наш попросил показать билет. Это была частная лотерея. Тогда он говорит: «Это незаконно». Тот говорит: «Отнюдь» — и показал что-то вроде разрешения в прозрачной корочке, с гербовой печатью и подписью губернатора. И этот купил билет, дело было чистое — когда розыгрыш, его предупредили заранее. Он проиграл, но все было по-честному. Сейчас он хочет добиться разрешения самому проводить лотерею.
Теперь я понимаю, откуда его жалкий вид. Парень из тех, что вечно отыскивают лазейки. Обидно, что девушку так увлекла его бредовая идея.
— Никто ему не разрешит, — шепчу я.
— Ну, не знаю, — говорит она. — А как же тот? Ему ведь разрешили.
— Кто поручится, что он не подделал бумагу?
— А гербовая печать?
— Нельзя же всему верить, миленькая.
Напрасно я поддался слабости и смягчил выговор.
Сейчас я думаю о том, с какой неохотой обнаруживала свои переживания моя мать, зато сколько чувства было за ее сдержанностью. Мне было шестнадцать лет, когда трудовая повинность заставила меня покинуть дом, точнее говоря, нашу комнату в меблирашках на Хау-стрит (тот год был последний, когда на семью еще полагалась отдельная комната); и мать, прощаясь со мной на лестнице, протянула мне руку и сказала: «До свидания, сын. Не роняй себя. Помни, что ты Пойнтер, и гордись этим». Я уходил из дому в первый и, как выяснилось, последний раз. Другими словами, отныне я был взрослый, и я уходил раз и навсегда. Когда я прежде выходил из дому, даже если по ее поручению выбегал на угол купить полтора фунта фарша, кресс-салата, простокваши, в которую, признаться, она верила куда больше, чем в своего белобородого конгрегационалистского бога, она всегда целовала меня в щеку, во всяком случае, чмокала воздух где-то возле. Но в тот раз только пожала руку. И, стоя сейчас в очереди, притиснутый к девушке в голубом, я как никогда пронзительно переживаю невыказанную боль моей матери, вот так давшей мне понять, что я взрослый человек, что я свободен.
Читать дальше