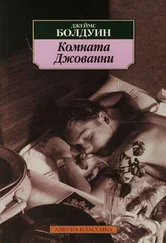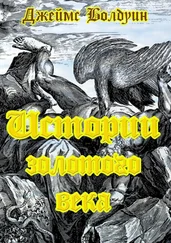— Простите, пожалуйста, — сказал я зеркалу, — что вам нужно?
Вопрос его не смутил, казалось, он почувствовал облегченно от того, что с ним заговорили.
— Сынок, — сказал он. — Мне нужен друг.
Он вытащил бумажник. Бумажник был потертый, заскорузлый, как и кожа у него на руках, и почти распадался на части; так же истерта была поломанная, выцветшая фотография, которую он мне протянул. С нее глядели семеро людей, стоящих на террасе ветхого деревянного дома, — все они были дети, за исключением самого этого человека, который обнимал за талию пухленькую беленькую девочку, заслонявшую ладошкой глаза от солнца.
— Это я, — сказал он, указывая на себя. — Это она… — И он потыкал пальцем в пухленькую девочку. — А этот вон, — добавил он, показывая на всклокоченного дылду, — это брат ее, Фред.
Я посмотрел на «нее» еще раз; да, теперь я уже мог узнать Холли в этой щурившейся толстощекой девчонке. И я сразу понял, кто этот человек.
— Вы — отец Холли.
Он заморгал; нахмурился.
— Ее не Холли зовут. Раньше ее звали Луламей Барнс. Раньше, — сказал он, передвигая губами зубочистку, — пока я на ней не женился. Я ее муж. Док Голайтли. Я лошадиный доктор, лечу животных. Ну, и фермерствую помаленьку. В Техасе, под Тьюлипом. Сынок, ты почему смеешься?
Это был нервный смех. Я глотнул воды и поперхнулся, он постучал меня по спине.
— Смеяться тут нечего, сынок. Я усталый человек. Пять лет ищу свою хозяйку. Как пришло письмо от Фреда с ее адресом, так я сразу взял билет на дальний автобус. Ей надо вернуться к мужу и к детям.
— Детям?
— Они же дети ей! — почти выкрикнул он.
Он имел в виду остальных четырех ребят на фотографии: двух босоногих девочек и двух мальчиков в комбинезонах. Ясно — этот человек не в себе.
— Но Холли не может быть их матерью. Они старше ее. Больше.
— Слушай, сынок, — сказал он рассудительно. — Я не говорю, что они ей родные дети. Их собственная незабвенная мать — золотая была женщина, упокой господь ее душу, — скончалась в тридцать шестом году, четвертого июля, в День независимости. В год засухи. На Луламей я женился в тридцать восьмом — ей тогда шел четырнадцатый год. Обыкновенная женщина в четырнадцать лет, может, и не знала бы, на что она идет. Но возьми Луламей — она ведь исключительная женщина. Она-то распрекрасно знала, что делает, когда обещала стать мне женой и матерью моим детям. Она нам всем сердце разбила, когда ни с того ни с сего сбежала из дому.
Он отпил холодного кофе и посмотрел на меня серьезно и испытующе.
— Ты что, сынок, сомневаешься? Ты мне не веришь, что я говорю все как было?
Я верил. История была слишком невероятной, чтобы в нее не поверить, и к тому же согласовывалась с первым впечатлением О. Д. Бермана от Холли в Калифорнии: «Не поймешь, не то деревенщина, не то сезонница». Трудно упрекнуть Бермана за то, что он не угадал в Холли малолетнюю жену из Тьюлипа, Техас.
— Прямо сердце разбила, когда ни с того ни с сего убежала из дому, — повторил лошадиный доктор. — Не было у ней причины. Всю работу по дому делали дочки. А Луламей могла сидеть себе посиживать, крутиться перед зеркалом да волосы мыть. Коровы свои, сад свои, куры, свиньи… Сынок, эта женщина прямо растолстела. А брат ее вырос, как великан. Совсем не такие они к нам пришли. Нелли, старшая моя дочка, привела их в дом. Пришла однажды утром и говорит: «Папа, я там в кухне заперла двух побирушек. Они на дворе воровали молоко и индюшачьи яйца». Это Луламей и Фред. До чего же они были страшные — ты такого в жизни не видел. Ребра торчат, ножки тощие — еле держат, зубы шатаются — каши не разжевать. Оказывается, мать умерла от ТБЦ, отец — тоже, а детишек — всю ораву — отправили жить к разным дрянным людям. Теперь, значит, Луламей с Фредом оба жили у каких-то поганых людишек, милях в ста от Тьюлипа. Оттуда ей было с чего бежать, из ихнего дома. А из моего бежать ей было не с чего. Это был ее дом. — Он поставил локти на стойку, прижал пальцами веки и вздохнул. — Поправилась она у нас, красивая стала женщина. И веселая. Говорливая, как сойка. Про что бы речь ни зашла — всегда скажет что-нибудь смешное, лучше всякого радио. Я ей, знаешь, цветы собирал. Ворона ей приручил, научил говорить ее имя. Показал ей, как на гитаре играют. Бывало, погляжу на нее — и слезы навертываются. Ночью, когда ей предложение делал, я плакал, как маленький. А она мне говорит: «Зачем ты плачешь, Док? Конечно, мы поженимся. Я ни разу еще не женилась». Ну, а я засмеялся и обнял ее — крепко: ни разу еще не женилась! — Он усмехнулся и стал опять жевать зубочистку. — Ты мне не говори, что этой женщине плохо жилось, — сказал он запальчиво. — Мы на нее чуть не молились. У ней и дел-то по дому не было. Разве что съесть кусок пирога. Или причесаться, или послать кого-нибудь за этими самыми журналами. К нам их на сотню долларов приходило, журналов. Если меня спросить — из-за них все и стряслось. Насмотрелась картинок. Небылиц начиталась. Через это она и начала ходить по дороге. Что ни день, все дальше уходит. Пройдет милю — и вернется. Две мили — и вернется. А один раз взяла и не вернулась. — Он снова прикрыл пальцами веки, в горле у него хрипело. — Ворон ее улетел и одичал. Все лето его было слышно. Во дворе. В саду. В лесу. Все лето кричал проклятый ворон: «Луламей, Луламей!»
Читать дальше