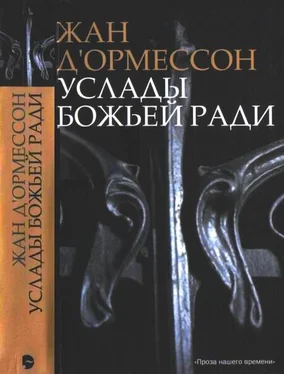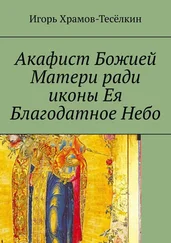Вы, наверное, помните, читатель, те тревожные годы, когда Даладье и Чемберлен делали все, что могли, то есть очень мало. Обменяв тысячи и тысячи людей и квадратных километров на хрупкий мир, они, к великому своему удивлению, выходя из самолета, были встречены радостными приветствиями толпы. Нация с песнями вступала в период отсрочки. Облегченно вздохнув, закрыв глаза и заткнув уши, люди наслаждались собственной трусостью. Шляпа Даладье и зонтик Чемберлена весили совсем немного по сравнению с созданными за четыре года фанатизма — причем не без помощи наших родственников Круппов — танками и самолетами, созданными вопреки требованиям Версальского и других договоров. В мире появилось нечто неожиданное: сила. Мы были, может быть, и правы, но не были сильными. А право без силы… Пока Народный фронт обещал обрадованным французам право на счастье и отдых, Гитлер предлагал немцам массированные бомбардировки и танковые прорывы.
В те годы дети очень любили сентябрь. Как только кончались летние каникулы, из казарм выходили солдаты, и тут уж детей в школу было не загнать. Повсюду царило тревожное волнение, пока еще не лишенное привычных удобств и даже приятно будоражившее воображение юношей. Голова шла кругом у нас у всех. Огромные заголовки в «Пари-суар», атаки Гитлера по субботам в самом начале неприкосновенных для англичан уик-эндов были для нас чем-то вроде возбуждающего наркотика. У всех было ощущение, что нас уносят уже запрограммированные где-то вихри истории, что придавало жизни необъятные пропорции. Мир оказался как бы вовлеченным в грандиозную игру, полную неопределенности и риска.
Мы одного особенно боялись, как и миллионы других французов. Единственного, что не реализовалось. Это были газы. Помните? С тех давних пор произошел такой прогресс, что химическая война сегодня никого не пугает. Но в те годы она занимала огромное место в наших страхах. Но будущее всегда отличается от наших опасений: иногда оно оказывается хуже самых мрачных предсказаний. Не боясь показаться пристрастным, скажу, что ни одно сменявшее друг друга правительство Франции не смогло предусмотреть ничего сколько-нибудь серьезного. Единственное, что они предусмотрели, оказалось бесполезным. Я имею в виду противогазы. Их имели все. У каждого на боку висел свой противогаз в серой продолговатой коробке, делавший нас всех в течение трех месяцев похожими на нелепых собирателей гербариев эпохи апокалипсиса. Где они сегодня, эти миллионы противогазов, ставшие такими же верными приметами своего времени, как танго и зонтик от солнца? Исчезли, канули в небытие, причем не только как свидетели ушедшего прошлого, но и не осуществившегося будущего. Поскольку у нас, к счастью, было достаточно удаленное от Парижа убежище, большая часть семьи дислоцировалась, как мы тогда говорили, в Плесси-ле-Водрёе. Одна лишь Урсула еще несколько месяцев — до наступления немецких войск, до измены тореадора и до снотворных пилюль — оставалась в департаменте Ло. У химического оружия было мало шансов отравить департамент Верхняя Сарта. Разбросанная в годы безумия, разделенная в тревожные времена, тут наша семья оказалась удивительно сплоченной. Между предвоенной эпохой и войной, осенью 1938 года и летом 1939-го, мы воспользовались одной из тех редких передышек, коротким затишьем накануне великой катастрофы, когда судьба порой застывает, словно не решаясь нанести удар и сбросить все в пропасть.
Дети занимались в том же учебном зале, где Жак и Клод, Мишель и я двадцатью годами раньше жадно слушали Жан-Кристофа и его уроки, перевернувшие наш мир. Жан-Кристофа уже не было. У нас не было достаточно средств, чтобы содержать учителя, да и дети никого бы не захотели. Со своими учебниками Кишра и Байи, как близнецы-братья похожими на наши растрепанные словари, они сами разбирались, правда скорее плохо, чем хорошо, с теми же древнегреческими и латинскими авторами, с теми же письмами Корнеля Расину и Вольтера Жану Жаку Руссо, которые изучали и мы. Вообще, глядя на жизнь в Плесси-ле-Водрёе и ее организацию, мы могли при желании питать иллюзию, что изменений произошло очень мало. Что мы состарились, вот и все. Мы постепенно заняли место наших родителей или дедов, мы стали сами себе родителями, а дети заменили нас, чтобы играть те же роли, какие играли мы когда-то, надевая на себя маски детства и отрочества. Мы на ступеньку поднялись, а может быть, опустились в истории этого мира, а другие заняли наше место. Ибо единственное, что прежде всего движется, даже когда ничто не движется, — это неподвижное время, которое ничего не перемещает, а грызет нас изнутри, впихивает в нас наших родителей, их возраст, их усталость и вливает в других нашу молодость, нашу силу, нашу жажду знаний и все то, чем мы были.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу