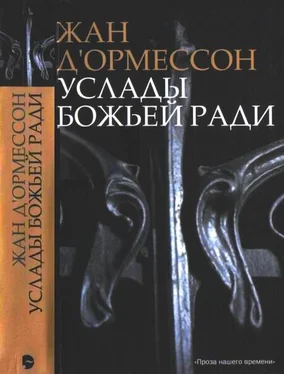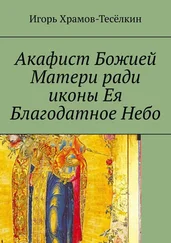Я рассказал о Жаке, Клоде, Мишеле Дебуа и даже о повесе Филиппе. А теперь я должен опять обратиться ненадолго к собственной персоне. Мне кажется, что я с самого начала стал играть интереснейшую и скромнейшую роль свидетеля, одну и ту же на протяжении всей моей жизни, теперь уже довольно длинной и, возможно, подошедшей к концу. Вспоминая, как мы впятером сидели в Плесси-ле-Водрёе или на улице Варенн между испещренной цифрами классной доской и прогибающимися под тяжестью отобранных для нас г-ном Контом книг полками, я осознаю, что моей судьбой было назначено — причем я не жалею об этом — все это видеть и слышать. По-видимому, я знал достаточно, чтобы следить за успехами Жака и Клода, и даже Мишеля, самого старшего из нас, и три-четыре года спустя ставшего студентом, с успехом изучавшего политическую экономию и затем одновременно с Жаком сдававшего конкурсный экзамен, один из самых трудных во Франции, в финансовую инспекцию, куда его приняли, а Жака нет. Я хорошо знал окружавших меня людей и восхищался ими. Клод писал стихи, которые казались мне такими же замечательными, как те, что выходили из-под пера Пеги или Аполлинера и которые мне удалось два или три года тому назад опубликовать. Жак писал роман и по вечерам темпераментно делился с нами своими планами и рассказывал нам про главных героев, возникавших в результате чудовищного скрещивания Клоделя и Радиге. Мишель объяснял нам теории экономистов Сисмонди и Парето, а сам приступал к изучению Кейнса, а мы с Клодом погружались в чтение Жироду, Мальро, Монтерлана и Арагона. Я был всего лишь зеркалом нашей группы. Отражал в крошечном масштабе одну из постоянных традиций семьи: жить в обществе и служить коллективу. При этом я добавлял и нечто от себя, нечто, унаследованное мной от отца: радостное изумление от созерцания мироздания и дружелюбное отношение ко вселенной. Я говорил себе, что стану свидетелем великих событий, которые изменят ход истории. Мы были молоды и думали не о себе, а об истории. Не о нашей, которая была повернута в прошлое. Мы думали об истории, которая творилась у нас на глазах, об истории будущего. Где-то у Мальро я прочел, что в двадцать лет он отличался от своих учителей присутствием истории. Вот и нам тоже стукнуло по двадцать, и мы тоже были гениальны, как все в этом возрасте. Мы растеряли свои воспоминания, обменяв их на воспоминания других людей, казавшихся нам крупнее нас, и на изумленное созерцание происходящего.
Дедушка мой не замедлил понять, что книги в состоянии довершить то, что начали революция, отмена права первородства, обязательная военная служба и всеобщее образование. И что все это может привести к пресловутой смерти Бога, слухи о которой уже докатились и до наших краев. В каком-то смысле появление г-на Конта и учебного класса в Плесси-ле-Водрёе означало пробуждение семьи. А в другом смысле стало чем-то вроде звона колокола, зазвонившего отходную. Традиции ничего не выигрывают от слишком въедливого их объяснения. Напротив, от этого они рискуют утратить свою строгость и упрямую узколобость, составляющих часть их красоты. Мир, который мы открыли из мансардных окон наших высоко расположенных учебных классов, был намного шире семейного горизонта. Мы стали лучше понимать жизнь, время, в котором живем, всех других людей и их потребности. Да, именно мы понимали. Тогда как величие семьи на протяжении многих веков зиждилось не на понимании, а на умении подчиняться, а главное — на умении командовать, на умении действовать, совершать долгие марши в каком-то одном направлении, не задавая лишних вопросов. Дедушка был уверен, что вопросы расслабляют человека. Из поколения в поколение мы избегали вопросов. И всегда всеми фибрами души вопросам без ответа предпочитали ответы без вопросов.
Книги шли войной на наши старые верования и привычки. Они взаимно разрушали друг друга и разрушали нас самих. Они говорили о ничтожности либо о глупости того, что было для нас дороже всего: порядка, неподвижности, тишины, слепой веры. Книги оказались боевыми машинами, призванными разрушить нашу, не имеющую словесного выражения систему. Они говорили, говорили, и это были тараны критики, осадные башни ярости, мины сатиры и подкопы юмора. Они опустошали наши исконные древние земли, наши молчаливые церкви, наши дворцы и музеи, наши замки и монастыри. К списку врагов нашей семьи, где уже были Галилей и Дарвин, Карл Маркс и доктор Фрейд, пришлось добавить Гуттенберга: он заставил говорить саму тишину. Сожалея о прошлом, мы думали прежде всего о тишине. Как бы мы ни зажимали руками уши, голова все равно шла кругом от шума, царящего в мире из-за книг, из-за газет, из-за моторов, из-за машин, забравшихся даже на небо, из-за беспроволочного телеграфа, как мы называли радио, из-за кинематографа, а потом еще и телевидения. Мы превратились в каких-то старых животных, преследуемых шумом. К грохоту мира, куда-то проваливающегося, присоединился шум мира нарождающегося и грозящего нас раздавить. Наши противники утверждали, что мы глухи к надвигающемуся приливу науки и прогресса. И мы хотели бы стать глухими. Нам говорили, что мы слепы, что мы не видим изменений, происходящих вокруг нас в этом состарившемся мире. И мы хотели бы стать слепыми. Глухими и слепыми. Глухими, чтобы не слышать, и слепыми, чтобы больше не читать. Дед мой предсказывал, что придет день, когда культура потребует от нас стать глухими, а ум — прекратить чтение. Я лишь недавно вспомнил об этом шутливом предсказании, вспомнил в связи с рекламой, которую ругали левые, и в связи с порнографией, которую разоблачали правые, и в связи с тем неимоверным шумом, который производят сталкивающиеся между собой разные течения массовой культуры. Вот почему дед включил Гуттенберга в зелено-черный список преступников, деяния которых направлены против мира, поскольку, как он говорил, зеленый цвет символизирует неоправдавшиеся надежды.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу