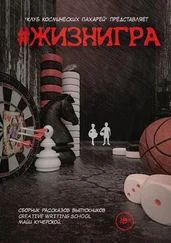Мейзель распеленал ее наконец, выпутал и даже зашипел от жалости — пергаментная кожа, вздутое щенячье пузцо, судорожно стиснутые синеватые пальчики. Сколько он видел таких, господи, сколько — кажется, надо давно привыкнуть, закрыться изнутри наглухо, очерстветь, но он не мог, просто не мог. Со спокойным сердцем отпускал взрослых — зарезанных, задавленных, замерзших спьяну и удавившихся с тоски, умерших от удара и болезни кишок, ращения утробы и нарыва на глазе. Делал, что мог, если не получалось — отходил в сторону с сожалением, но без боли. У взрослых был выбор, и не важно, как они им воспользовались. Выбор — был. Бог дал, Бог взял — это было про них. Про взрослых. Детям Бог не дал ничего, значит, не смел и отбирать. Поэтому каждую смерть ребенка Мейзель считал личным вызовом, прицельным, мстительным плевком в собственное лицо.
Это был персональный крестовый поход. Не детей. За детей. На деле — бесконечная битва с ветряными мельницами, конечно. Дети умирали. Крестьянские — тысячами. Тысячами! Малярия, дифтерия, оспа, холера, тиф. До земской реформы тысяча восемьсот шестьдесят пятого года на всю Воронежскую губернию приходилось семь врачей. После — прибыло еще сорок. Легче не стало. Хуже всего было летом — и Мейзель ненавидел его люто. Июнь, июль и август были временем самой тяжелой крестьянской работы, и если родившиеся в осень и зиму еще могли чудом увернуться от кори или пневмонии, то летние дети умирали от голода. Почти все. Почти все! Единственная больница брала с каждого страждущего шесть рублей тридцать копеек в месяц. Немыслимо дорого!
Каждое лето Мейзель бесконечно мотался из одной смрадной избы в другую, пытаясь сделать хоть что-то, хоть как-то помочь. Напрасно. Матери уходили в поле еще до света, возвращались затемно. Новорожденных оставляли на младших, чудом выживших детей, на полоумных стариков. Или совсем одних. Счастье, если в доме была корова. Если нет… В лучшем случае нажевывали в тряпку хлеба с кислым квасом или брагой, в худшем — давали рожок, самый обычный коровий рог, к которому привязывался отрезанный и тоже коровий сосок. В рожок заливали жидкую кашу. К вечеру, в жаре, сосок превращался в кусок тухлого мяса, каша закисала. В такой же кусок тухлого мяса часто превращался и сам младенец — которого сутками держали в замаранных тугих свивальниках, так что Мейзель часами потом вычищал из распухших язв мушиные личинки, без малейшей надежды, что это поможет, просто повинуясь совести и долгу.
Он все понимал, ей-богу: каторжная работа, усталость, невежество, да что там невежество — настоящая дремучесть, он не понимал только одного — почему в избах была такая чудовищная, невообразимая грязь? Почему каша в рожке — и без того дрянная, часто была с тараканами и трухой? Почему дети червивели заживо? Почему нельзя было, ладно — не вымыть, но хотя бы проветрить? Перетряхнуть кишащие вшами и блохами лежанки?
Это был вопрос не врача, а отчаянно, почти патологически брезгливого человека. Коллеги Мейзеля если и ушли от крестьян, то всего на пару шагов. Из мертвецкой в родильную палату входили в одном и том же сюртуке, и в нем же отправлялись на дружескую пирушку. Земмельвейс, попытавшийся привить медикам любовь к мытью рук раствором хлорной извести, умер всего два года назад, чокнутый, осмеянный, в сумасшедшем доме. Мейзель и слыхом об этом не слыхивал, разумеется. Он и не догадывался, что через тринадцать лет всего воцарится карболка, врачи разом, будто не было никакого затравленного Земмельвейса, заговорят об асептике и антисептике, о стерильности, об обработке ран и рук. Просто грязь была невыносима ему физически.
Мейзель осторожно прощупал живот ребенка — вздутый. Паучьи ручки и ножки. Огромная голова. Девочка дышала прерывисто, поверхностно. Но еще дышала. Она тоже умирала от голода, господи! Княжеская детская. Батистовые пеленки. Шелковые диваны. Дикость. Невежество. Смрад. Мейзель достал из саквояжа шприц, набрал камфару, долго выбирал, куда уколоть, но понял, что так и не выберет. Некуда. Игла вошла в натянутую сухую кожу. Ребенок перестал пищать, коротко застонал и снова затих.
Бабы разом перекрестились. Борятинская сидела все так же неподвижно, уронив опустевшие руки и глядя перед собой светлыми, совершенно сумасшедшими глазами.
— Грязь! — заорал вдруг Мейзель. — Почему тут такая грязь?! Почему нечем дышать?!
Бабы переглянулись.
— Трясовицы ходют, неровен час… — низко, в нос, сказала кормилица, молодая, задастая баба, смуглая, гладкая, как породистая кобыла. И даже взгляд у нее был совершенно лошадиный — диковатый, испуганный, темный. Боялась, что погонят с теплого места.
Читать дальше

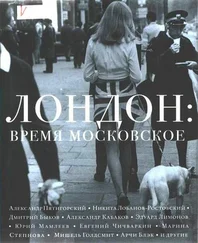





![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)