Война была одна. И ее, как известно, посредством чьих-то дедушек выиграли Мизулина с Милоновым. И я ничуть не удивлюсь, если в самое короткое время они сочинят какой-нибудь закон, в соответствии с которым публичное употребление слова “война” в каком-либо ином значении и контексте будет считаться уголовно наказуемым.
А других войн и не было с тех пор. Это же всем известно. Были оказания братской помощи, были контртеррористические операции, были выполнения интернационального долга и введения ограниченных контингентов, были восстановления конституционного порядка с дружественными бомбежками городов. А войн не было.
И население страны всегда делилось на две неравные части. Одна — всегда меньшая — упорно называла воину войной, подлость подлостью, трусость трусостью, а глупость глупостью. Другая, большая, подверженная воздействию официальной пропаганды, войну называла миролюбивой политикой, подлость — патриотизмом, трусость — необходимостью считаться с обстоятельствами, а глупость — верой в мудрую политику партии и правительства.
И эта главная война, война лингвистическая, война за значения слов и понятий, была и остается главной и нескончаемой гражданской войной.
И в полном соответствии с этой логикой, с этим незыблемым порядком вещей ничуть не должно никого изумлять, что собрания граждан под антивоенными лозунгами признаются незаконными и довольно грубо пресекаются, а бюджетные шествия с пресловутыми ленточками и призывами типа “Танки на Киев!” не только поощряются, но и организовываются властью.
Какая война? Вы что! Войны нет. И не будет. Хватит, как говорится, нагнетать. Успокойтесь уже. Успокоились? Ну вот и хорошо.
Мономентальная пропаганда
В последнее время все чаще звучит волшебное, как бы умиротворяющее, но основательно, к сожалению, обессмысленное слово “диалог”. О диалоге, о необходимости диалога говорят более или менее все, включая тех, кто под диалогом понимает допрос в прокуратуре или духоподъемное общение по прямой линии президента с радостно оживленной толпой верноподданных граждан: “Трудно вам, наверное, дорогой господин президент, управлять такой бестолковой и неблагодарной публикой, как мы тут? — Да
уж нелегко, если правду сказать! Но уж справимся как-нибудь. Если, конечно, окажете доверие. — Окажем, окажем, куда мы денемся. А вот народ волнуется: когда мы уже наконец-то присоединим Гренландию? Без Гренландии как-то не того, чего-то как будто не хватает. — Не все сразу, не все сразу… ”
Скептики говорят, что какой, мол, диалог, если, вообще-то говоря, идет война, пусть и необъявленная. Я понимаю скептиков, но и я безусловный сторонник того, что диалог насущно необходим. На всех уровнях и — в труднодостижимом идеале — всех со всеми.
И дело даже не в том, что он необходим. Дело в том, что настоящая, глубинная и губительная война проистекает между двумя типами сознания — диалогическим и монологическим. Диалогическое сознание направлено на установление коммуникационного комфорта, на мучительный, но насущно необходимый поиск взаимопонятного языка, владение которым или хотя бы изучение которого сводит к минимуму необратимые социальные и культурные катастрофы.
Монологическое сознание не стремится к разговору. Оно стремится к расширению пространства собственного обитания и влияния. Оно стремится к экспансии, в том числе и территориальной.
Ложь в пространстве настоящего, то есть горизонтального диалога всегда подконтрольна, всегда уязвима. В монологическом же пространстве, где узаконена монополия на истину, ложь всегда стремится к тотальности и с легкостью ее достигает.
Иногда кажется, что они — и заказчики, и изготовители этого тотального вранья — сами в какой-то момент начинают в него верить. Что и понятно: когда долго занимаешься изготовлением ядовитых газов, и сам в конце концов надышишься ими до отвала.
Иногда кажется, что их обида и негодование, направленные на тех, кто им упорно не верит, вполне искренни.
Иногда кажется, что их тотальное вранье выходит за пределы чисто инструментальных задач, что оно и есть основа для искомой “госидеологии”.
Эту самую идеологию коротко можно обозначить как “суверенная правда”. Слово “суверенный”, запущенное однажды в пропагандистский оборот, оказалось необычайно удобным в силу своей повышенной семантической пластичности.
В соответствии с этой идеологией “правда” — это вовсе не то, что правдой считается в лицемерном “Пиндостане” или в “содомской Гейропе”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
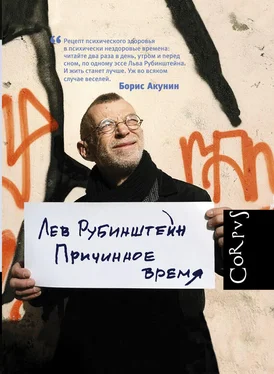



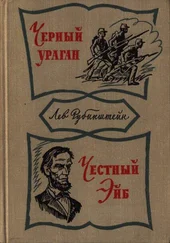





![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
